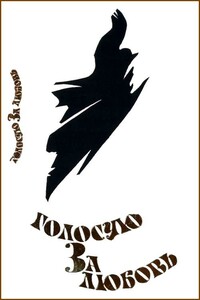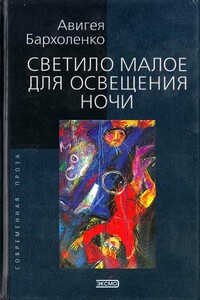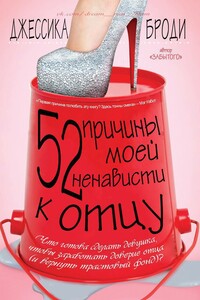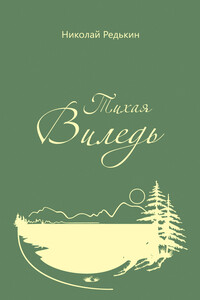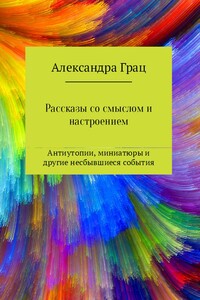Читать не надо! | страница 38
И тот и другой случай — угроза моим взаимоотношениям с миром. И если эти взаимоотношения не улучшатся, в скором времени я могу вообще оказаться в изоляции.
Все так. Я родом из культуры с грубоватым, унижающим юмором, из культуры двойственности и двуличия (подчинения авторитетам и в то же время скрытого скепсиса по отношению к любому авторитету). Культуры парадокса и неоднозначности, культуры с двойным дном и скрещенными за спиной пальцами, культуры, которая, подобно людям, выработала различные тактики в борьбе за выживание. Я научилась распознавать разновидности этой тактики, в моем мозгу выработался рефлекс предосторожности. Я вышла из культуры, которая между усердным трудом за письменным столом и оттачиванием языка за столиком в кафе неизменно выбирала последнее (иронию, остроумие и дешевый юмор). Я вышла из культуры, известной более своими социальными выпадами, чем продолжительностью. Я вышла из агрессивной и кастовой, но в то же время парадоксально эластичной культуры, которая без устали перебирает струны своего тысячелетнего прошлого и одновременно с поразительной легкостью все меняет: уничтожает собственные памятники и библиотеки, прокладывает шоссе через руины римской империи, ставит в покоях Диоклетиана баки с мусором. Человек наивный, не отягощенный культурными предрассудками может подумать, что я явилась из самого эпицентра, из сердца культуры постмодерна. И он ошибется, хотя в то же самое время (почему бы и нет?) будет прав.
Возможно, благодаря именно такому культурному окружению я могу похвастать кое-какими преимуществами. Я весьма чувствительна к исчезновению культурных ценностей, что вполне понятно: у меня постоянно что-то отбирали, что-то рушили или мостили новым поверх старого, в том числе и в отношении моего родного языка. А экология как наука пришла ко мне тогда, когда окружающая среда уже была почти уничтожена.
Я, увы, не папуаска. Я овладела культурными навыками этой части света. Я пью кока-колу, «Омо» пенится в моей стиральной машине, и я знакома с творчеством Шекспира. Но почему же я все чаще и чаще чувствую внутреннюю необходимость объяснять что-то, оправдываться?
В своей книге «Цинизм и постмодернизм» Тимоти Бьюз[19] высказывает предположение, что феномен искренности — одно из культурных наваждений нашего времени. В начале девяностых годов средства массовой информации, щупая пульс рынка и натыкаясь на тоску по словесной прозрачности, переупаковали постмодернистский дух времени в век честности. И вот, заключает Бьюз, «искренность как знак коммерческой надежности заместила собой остроумие и утонченность». И едва рынок дал зеленый свет, полки политического, культурного и медийного рынка завалила куча продукции, «суть которой не что иное, как утверждение собственной аутентичности». Политики, медиаперсоны, поп-музыканты, художники, писатели и простые люди — все поклоняются идеологии подлинности и искренности. Постоянно приходится натыкаться на усердное, чистое, естественное, первоклассное, стопроцентно подлинное, реальное явление — реальную жизнь, реальную драму.