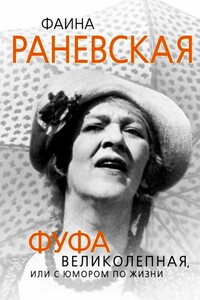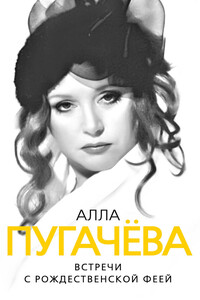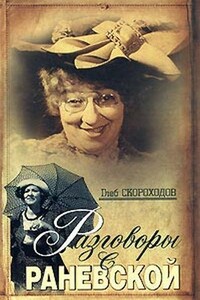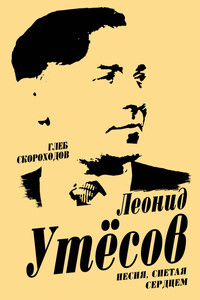Леонид Утесов. Друзья и враги | страница 6
Очередную свою сенсацию Утесов привез в Москву осенью 1929 года – только что родившийся Теа-джаз. Выступления нового театрализованного оркестра все лето шли в ленинградском Саду отдыха ежедневно и, как утверждали рецензенты, «сад от восторга сходил с ума». Эрдман восторгался прежде всего другом, который дирижировал, пел, танцевал, читал стихи под музыку, играл на скрипке и джаз-флейте и ко всему этому был еще и конферансье. Можно было сбиться со счету, сколько раз Николай Робертович смотрел программу Теа-джаза в мюзик-холле. Одно точно: сюда приходил он только на третье отделение, отданное утесовцам. И неудивительно, что драматург, чей «Мандат» в театре Мейерхольда прошел больше 350 раз, безоговорочно принял предложение Утесова сделать сценарий для новой программы «Джаз на повороте».
Эта программа шла при аншлагах два года. Зрители ломились на нее. Но вот тот самый случай, когда на пути артистов встречаются не только розы. РАПМ – Российская ассоциация пролетарских музыкантов – в те годы еще продолжала править бал. Созданная в середине двадцатых годов, она повела яростную борьбу со всем, что, по ее мнению, не являлось пролетарским, – современной танцевальной музыкой, джазом, «цыганщиной» и т. п. Дунаевского, Милютина, Блантера они пригвоздили к черной доске как «фокстротчиков», цыганский романс объявили «проституцией», Утесова – «халтурщиком», «пропагандистом низменных вкусов», «певцом загнивающего Запада», а его джаз – «вредителями».
В своем журнале «За пролетарскую музыку» (был и такой!) утесовско-эрдмановскую программу «Джаз на повороте» они разгромили. Вот фрагмент из их рецензии: «На широкой эстраде Московского мюзик-холла расположился оркестр из джаза, саксофонов, банджо и прочих „современных“ инструментов, а сбоку в глубоком кресле уютно сидит и сам „маэстро“ – Леонид Утесов. Он обращается к публике с типичными эстрадными пошлостями и затем начинает свой „концерт“ с „американского“ номера, как громко называет „маэстро“ самый расшантанный фокстрот, тупой, механический, но насыщенный той кабацкой „спецификой“, по которой истосковались московские нэпманские мамаши и дочки. Дальше следует экскурс в „национальную“ музыку – русскую, еврейскую, украинскую – неподражаемая смесь наглости и цинизма. Прикрываясь словами (это, мол, старый быт), Утесов смакует типичные для старых песен элементы, чем и приводит в неописуемый восторг обывательские души».
Открытие «Музыкального магазина»