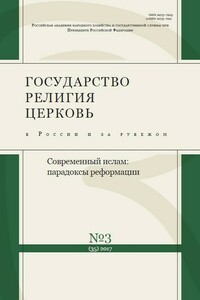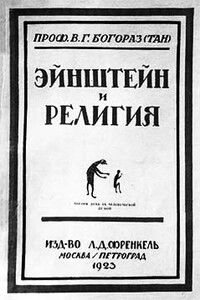Вызов экуменизма | страница 115
Применение термина «ипостась» в сверхапофатической сфере — применительно к тайнам внутритроического бытия — учит несомненной апофатической сдержанности. В силу указанной св. Василием связи богословия и антропологии та же сдержанность должна быть характерна и для антропологических размышлений о личности. Именно с апофатическим богословием связана принципиальная открытость православной антропологии, ее несогласие редуцировать сущность человека к любому конечному ряду характеристик.
Вновь мы видим, что различие личности и индивидуальности выразимо лишь в категориях грамматических — как различие между «кто» и «что». «Отец и Сын не одно, а два, хотя по естеству — одно; потому что — иной и иной, хотя не иное и иное», — воспроизводит св. Николай Мефонский традиционную формулу византийского богословия [202]. Еще на Третьем Вселенском Соборе цитировались слова св. Григория Богослова: «В Спасителе есть иное и иное, но не имеет в Нем места Иной и Иной. Когда же говорю: иное и иное, разумею это иначе, нежели как должно разуметь о Троице. Там Иной и Иной, чтобы не слить нам ипостасей, а не иное и иное» [203].
Именно употреблением такого типа местоимений подчас определялась православность или еретичность богословской системы. Вот, например, литургическая молитва константинопольского патриарха Нестория — «Благословляем Бога Слова, Который принял образ раба и совокупил его с собой в славе, могуществе и чести» [204]. Если бы в этой фразе стояло не «его», а «ее» (природу) — все было бы православно… А так Несторий вошел в историю Церкви как ересиарх, рассекший надвое Христа [rrrr]…
И вот этому апофатизму православного богословия, как оказалось, все же гораздо более соответствует слово ипостась, нежели просопон или персона.
То, что восточно-христианские богословы взяли как базовое слово ипостась, а латинские писатели — слово персона, означало многое в судьбе этих культур. Западная персона ведь соответствует именно греческому просопон, но не ипостаси: “Людей, которые узнаются каждый благодаря определенным чертам (форма), латиняне стали называть «лица» (персона), а греки — «просопон», — определяет Боэций [205]. В определении Боэция речь идет о внешнем узнавании; персона, соответственно, описуема и выразима. Это то, что замечаемо, те конкретные и качественно-определенные черты, по которым человека можно узнать в толпе.
«Прос» — это приставка, указывающая на направление к чему-то; «оп» — тот же корень, что и в слове «оптический», то, что «видно». «Просопон» — то, что бросается в глаза, что видно глазами, то, что имеет вид, наружность. «Почему нельзя этот термин переводить как личность? Потому что одному человеку свойственно несколько таких „просопонов“. У Гомера читаем, что Аякс, смеясь, наводил своими „просопонами“ ужас на окружающих. Значит, не личность? Личность-то у него одна! А что в таком случае „просопон“? Либо выражение лица, либо просто наружность. И позднее во всей литературе слово „просопон“ имеет значение „наружность“. Пиндар (V в. до н. э.) употребляет слово „просопон“, когда рисует блеск наружный, внешний вид. Только у Демосфена, а это не ранее IV в. до н. э., я нахожу „просопон“ в значении маски. Маска божества делает того, кто ее носит, самим этим божеством. Это уже ближе к понятию личности, но тоже еще только внешняя ее сторона. В позднейшей литературе уже говорят не о маске, а об актере, играющем роль; его называют „просопон", то есть действующее лицо. Затем, в I в. до н. э., я нахожу понимание термина „просопон“ как вообще литературного героя. Собственно говоря, до христианской литературы не встретишь „просопон“ в собственном смысле слова как личность“