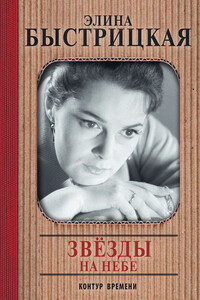Лев Шестов по моим воспоминаниям | страница 31
«Не мрачная аскеза знаменует Мудреца Брамы, но радостное, полное надежды сознание единства с Богом».
Последний раз я беседовал с ним 24 октября. Письмо от 5 ноября ко мне было последним, которое он написал.
Я не отметил вчера этот покой, эту лучистость его лица. Я вступил в комнату с каким-то предубеждением, отталкиванием, которое я могу хорошо объяснить, — то был страх запечатлеть в себе мертвый лик человека, которого я любил. Я зарыдал, увидев его окоченевшим, и через мгновение устыдился своего рыдания. Плача, я кричал в глубине души, но то был лишь безмолвный диалог души с самою собой: — Где ты теперь? Теперь ты знаешь?»
22.11.1938 г.«Похороны состоялись на новом кладбище Булонь-Биянкур, в юго-восточной части, в мавзолее, где покоятся уже его мать и брат. Только русские газеты дали сообщение; из представителей французской литературы присутствовал только Жюль-де-Готье. Около сотни людей».
Привожу еще выдержки из некролога Лазарева: «Этим летом (т. е. летом 1938 г.) Шестов рассказал мне — к слову пришлось, — что, когда в начале года случилось с ним острое заболевание, то, как ни силились скрыть тревогу близкие и врачи, он уловил по их лицам, что положение его серьезно и возможен худший исход. «Но, продолжал Шестов, мне не было страшно, мне было легко, очень легко. Вот, думал я, скоро спадут оковы». Посетил я его недели за три-четыре до его кончины и ушел тогда от него с впечатлениями, которые заронили в моей душе тревожную мысль, но я гнал ее от себя и только теперь отдаю себе отчет во всем значении этих впечатлений. Обычно Шестов бодро, подолгу и с одушевлением говорил о занимавших его проблемах. А в этот раз он был какой-то притихший. Он сидел в углу дивана, запрокинув немного голову на спинку, как будто усталый, с устремленным вверх задумчивым взором, минутами как будто отсутствующий, и в полусвете лампы под абажуром похудевшее лицо его светилось какой-то прозрачной бледностью. Я только теперь понимаю, что он тогда каким-то краем своей души уже чувствовал, чтю он скоро уйдет отсюда и в сосредоточенности приготовлялся к смерти.
А три недели спустя я стоял перед его открытым гробом и смотрел в лицо умершего учителя и друга, и больше, чем учителя и друга. Глаза его были закрыты. Уста замкнулись. И хотя он не был поэтом, в мое сознание неотступно толкалось:
Умолкли звуки дивных песен,
И на устах его печать!
Но знаю, будут жить его мысли. Неужели же самого творца и источника их уже нету, ушел из бытия! Нельзя принять этого. Это было бы предельно, до чудовищности бессмысленно, а не может быть, чтобы бессмыслие было в основе всего. Нет, он не ушел из Жизни, а только от нас, отсюда, ушел туда, где спали оковы, где не нужно уже бороться против самоочевидностей и принудительных истин, ибо там истина не принуждает, а, сотворенная Богом, как все в мире, и поэтому всегда