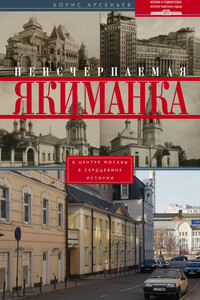Золотая осень | страница 42
Своеобразие советской социально–экономической модели можно коротко охарактеризовать как централизованное индустриальное общество, имея в виду, что централизация управления в нем была максимальной среди других индустриальных обществ. Из этого вкупе с социальным государством вытекала высокая степень социальной однородности. СССР представлял собой гигантскую корпорацию, и, подобно капиталистическим корпорациям ХХ века, развивался в направлении большей автономии подразделений и элементов. В ходе процесса автономизации прежде управляемые из единого центра элементы формировали сложную систему многоуровневых горизонтальных связей (хотя сохранялись и вертикальные).
В случае сохранения равномерности этого процесса автономизации могло возникнуть общество с сетевыми связями, преобладающим средним слоем, высоким уровнем образования – оптимальные условия для решения пост–индустриальных задач. Однако в структуре советского общества было немало того, что препятствовало этому. Прежде всего речь идет о крайней степени монополизма и бюрократизации хозяйства и социальных отношений.
Во второй половине ХХ в. динамика и проблемы советской системы во все большей степени определялись противоречием между индустриальным централизмом, вертикальными управленческими связями, и растущей автономизацией, развитием горизонтальных, равноправных связей. Но чтобы «вызреть», это противоречие должно было десятилетиями развиваться подспудно.
В модели централизованного индустриального общества, стремившейся к максимальной рациональности, предприятия создавались как цеха единого государственного мега–предприятия. Это вело к технически обусловленному монополизму, где конкуренция не предполагалась в принципе – не могут же конкурировать между собой цеха одной фабрики – разве что соревноваться. Следовательно, ограничение использования товарно–денежных отношений в такой системе было предопределено самой структурой народного хозяйства. Ведь монополист может назначить цену произвольно. Чтобы избежать гиперинфляции в такой системе, цены должны быть фиксированы, «конституированы». Только такие фиксированные цены, изменяемые решениями власти, могли обеспечить нормальные, устойчивые связи между «цехами» мега–фабрики СССР, доступ граждан к привычным продуктам и услугам. Однако в силу фиксированности цен деньги не могли играть роль универсального эквивалента обмена и распределения.
Индустриальное общество основано на стандартах, так что фиксация денежных показателей и количественное распределение обычных (предполагалось – стандартных) ресурсов не мешали модернизации на этапе становления индустриализма. Но в развитом индустриальном, урбанизированном обществе все большее значение приобретают качественные показатели. Если рабочие 30–х гг. должны были быть одеты, обуты и накормлены, то новое поколение хотело одеваться модно и питаться вкусно. Стандартизированная денежная система и плановые натуральные показатели затрудняли учет качественных параметров. Государственная плановая экономика была рассчитана на производство либо массы стандартной (причем, плохо стандартизированной) продукции, либо уникальных образцов сложной высококачественной техники. В итоге часть потребностей оказывались неудовлетворенной, продукция делилась на обычную, более доступную, и дефицитную.