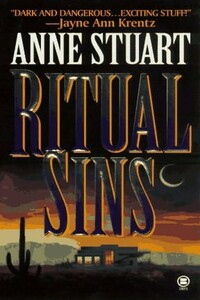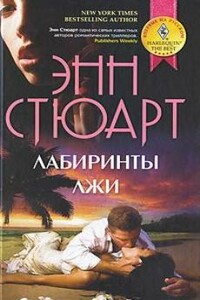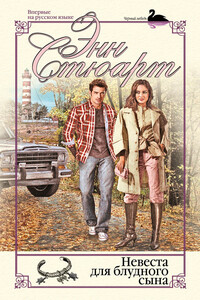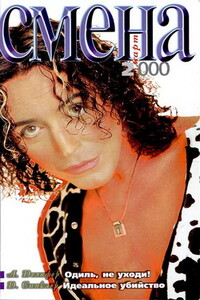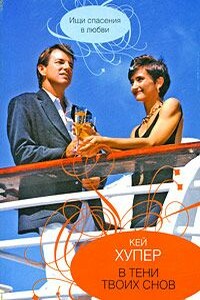Красив и очень опасен | страница 6
– Чтоб ее приподняло и хлопнуло! – смачно процедил Шон. – Ты сказала, что я болен?
– Я сказала именно то, что ты мне велел. Что ты простудился, однако выздоровление по непонятным причинам затягивается, и что ей лучше бы приехать навестить тебя.
– А она что сказала?
– Нечто невразумительное. Ты должен сам это понимать, Шон. Нельзя требовать от людей, даже самых близких, того, чего ты в свое время сам им не дал.
– Кэссиди меня не предаст, – убежденно сказал он. – Она верная, надежная и совершенно не злопамятная.
– Ты пользуешься тем, что все тебя прощают, – промолвила Мабри. – Но в один прекрасный день людям это надоест.
– Господи, Мабри, давай обойдемся без твоих нотаций, – поморщился Шон. – Я знаю свою дочь лучше, чем ты. Она приедет. Меня интересует только, когда.
Допив чай с женьшенем, Мабри отставила чашку.
– Боюсь, дорогой, что тебе впервые в жизни понадобится запастись терпением, – ядовито произнесла она.
Шон метнул на нее испепеляющий взгляд, но Мабри сделала вид, что не заметила его, и взялась за газету; ее прелестное лицо казалось совершенно безмятежным.
– Если ты меня не поддержишь, придется поискать поддержку в другом месте, – капризным голосом сказал Шон О'Рурк.
Ответ Мабри остановил его уже в дверях.
– На твоем месте я была бы чуть поосторожней со своим новым любимцем, – нежнейшим тоном молвила она. – Он может оказаться не столь благовоспитанным, как ты думаешь.
Шон хрипло рассмеялся:
– Именно это меня и вдохновляет, Мабри. За тиграми куда интереснее наблюдать, чем за домашними кошками.
– Смотри, как бы ты не зашел слишком далеко.
– Непременно, – ухмыльнулся Шон.
Лежа на кровати, он размышлял. Еще в тюремной камере он научился таким образом ускользать от действительности; при этом лишь бренная оболочка его тела покоилась на тонком матрасе, тогда как душа плавно парила в облаках. За бетонными тюремными стенами эхом прокатывались неясные звуки – голоса, лязг металлических дверей, звяканье ключей и монет, – но ничто не нарушало его свободного парения.
Он настолько приучил себя, что мог отключиться от бытия буквально в любую минуту. Разумеется, воссоздать тем самым себе алиби он не мог, да и не стремился – убеждать суд присяжных в своей невиновности в его планы не входило. Его интересовало лишь одно: как бы побыстрее со всем этим покончить.
Был даже миг, когда он всерьез подумывал о том, чтобы признаться, но лишь остатки инстинкта самосохранения, теплившегося в самом дальнем уголке мозга, удержали его от этого пагубного шага. Признание бы безвозвратно отрезало пути назад. Лишь храня молчание или напрочь все отрицая, он мог надеяться посеять в умах присяжных хоть крупицу сомнения.