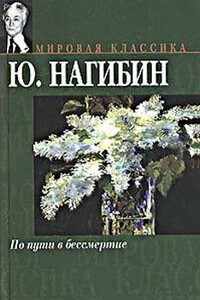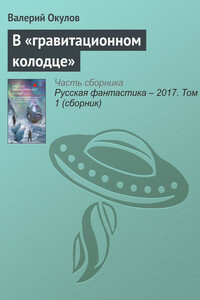Размышления хирурга | страница 56
Можно поистине удивляться, как Гете не понимал всей наивности такой концепции, то есть предопределенности и вытекающей из этого аполитичности, презрения к полемике и отказа от борьбы! Ведь он по себе знал, что даже в должности министра и ближайшего доверенного великого герцога он не мог без борьбы заполучить для библиотеки Йенского университета пустующего зала медицинского факультета и что ему пришлось овладеть этим залом явочным путем, то есть прямым, неприкрытым насилием.
В одном нельзя сомневаться – это в том, что Гете был абсолютно искренен. Он никогда не подделывался под придворные взгляды и этикет и не заигрывал ни с общественным мнением, ни с традициями буржуазии. Лучше всего искренность Гете доказывается случаем с Сорэ, когда возбужденно и восхищенно расспрашивал вошедшего гостя «о последних, чрезвычайных событиях». Сорэ, конечно, имел в виду только что полученные сведения об июльском перевороте 1830 г. в Париже. И только позже собеседники поняли, что они говорят о совершенно разных событиях. «Мы, по-видимому, не понимаем друг друга, мой дорогой, — сказал Гете. — Я говорю о чрезвычайно важном для науки споре между Кювье и Жоффруа Сент Илером (19 июля), который вынуждены были, наконец, вынести на публичное заседание Академии». Что ни говорить, для Гете, перерабатывавшего в это время свой труд «Метаморфоза растений» для французского издания, была очень важна победа Жоффруа Сент Илера, то есть прогрессивных ламаркистских идей против консервативных взглядов Кювье, исповедовавшего неизменяемость видов, однако этот академический спор на чей угодно взгляд терял свое значение на фоне бурных событий июльского переворота! Но для Гете было мало интереса «в волнениях мирских», и как ни увлекался он чтением французского журнала «Le globe», где восхищался Гизо, Ампером и Кузеном за их широкие взгляды на политику и отсутствие шовинизма, он иногда жалел о времени, потраченном на чтение этой передовой газеты, ибо в эти годы вышло в свет много научных работ молодых ученых, проливающих свет на важные академические вопросы. Если Гете, по превосходному выражению Баратынского, «умел слушать, как трава растет, и понимать шум волн», то не менее прав А. И. Герцен, заметивший по этому поводу, что Гете «был туг на ухо, когда дело шло о подслушивании народной жизни скрытой, неясной самому народу, не облачившейся официальным языком».
Хотя за истекшее столетие психология и национальные характеристики очень изменились, особенно у немцев, тем не менее сохраняет интерес тот анализ, который сделал Белинский в отношении склонностей народов Германии и Франции к наукам и искусствам. Германия вся – мысль, созерцание, знание, Франция вся – страсть, деятельность, движение, жизнь. Немец созерцает природу и человека как предмет для сознания, а потому германская наука и искусство носят характер мыслительно-созерцательный, субъективно-идеальный, восторженно-аскетический, отвлеченно-ученый. Это обеспечивает большое значение немецкой науки и поэзии, зато приводит к общественной педантичности не только в домашнем и семейном быту, но и в общественной жизни.