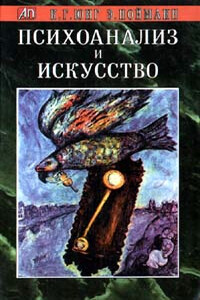Глубинная психология и новая этика | страница 8
При таком поведении бессознательного процесс этического примирения с ним приобретает особый характер. Этот процесс заключается не в работе с данным ^материалом”, а в переговорах с психическим меньшинством (или, в зависимости от обстоятельств, большинством), которое обладает равными правами. Поэтому автор сравнивает отношение к бессознательному с парламентской демократией, тогда как старая этика подражает или отдает предпочтение процедурам абсолютной монархии или тиранической однопартийной системы. Благодаря новой этике эго-сознание лишилось ведущего положения в психике, организованной по принципам монархии или тоталитарного государства, причем ведущее положение теперь перешло к целостности или самости. Разумеется, самость всегда находилась в центре психического и поэтому неизменно выполняла роль тайного руководителя. В давнее время гностицизм проецировал эту ситуацию на небеса в форме метафизической драмы, в которой эго-сознание играет роль тщеславного демиурга, вообразившего себя единственным творцом мира, а самость выступает в качестве высшего непознаваемого бога, эманацией которого и является сам демиург. Объединение сознательного и бессознательного в процессе индивидуации составляет сущность этической проблемы и проецируется в виде драмы спасения. В некоторых гностических системах суть этой драмы состоит в том, что демиург находит и узнает высшего бога.
Приведенная аналогия указывает на масштабность рассматриваемой проблемы и очерчивает особый характер встречи с бессознательным на этическом уровне. Эта проблема действительно имеет существенное значение. Она позволяет понять, почему вопрос новой этики столь актуален для автора, который отстаивает свою точку зрения с отвагой и страстью, сопоставимыми с его проницательностью и вдумчивостью. Я рад появлению этой книги, потому что она представляет собой первую достойную внимания попытку сформулировать этические проблемы возникшие в связи с открытием бессознательного, и сделать их предметом обсуждения.
Предисловие
Замысел этой книги возник во время второй мировой войны и под ее непосредственным влиянием. Книга выходит в свет во время, уже омраченное призраком третьей мировой войны. Уместно ли обсуждать проблемы этики, а тем более проблемы “новой” этики, когда смерть правит бал, прелюдией к которому был национал-социализм в Германии?
Государства, лишь вчера заявлявшие о своей солидарности в борьбе за свободу человечества, теперь соревнуются друг с другом в сфере производства атомных бомб. Кто может усомниться в том, что представляющееся невероятным сегодня, станет завтра обычной вещью? Какое значение может иметь в такой международной обстановке нелепый “этический” вопрос и еще более нелепый ответ: “все зависит от человека”?