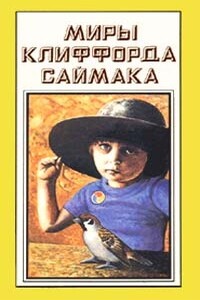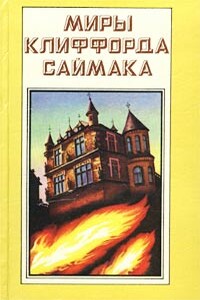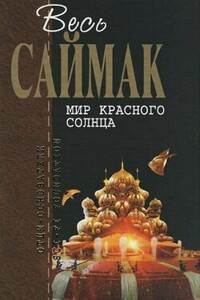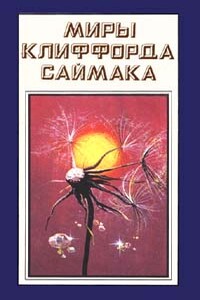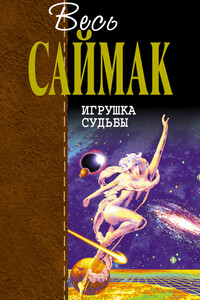Планета Шекспира | страница 17
Но как бы то ни было, он сделался в конце концов символом Века Веры в материалистическом мире, и один писатель, бравший у него интервью, описал его, как средневекового человека, просуществовавшего до современности. Образ, происшедший из этого интервью, опубликованном в имеющем большое хождение журнале и написанного восприимчивым человеком, не стеснявшегося для пущего эффекта слегка приукрасить факты, дал толчок, который несколько лет спустя возвел его к величию, как простого человека, сохранившего проникновенность, необходимую для возврата к первичной вере, и душевную силу, чтобы удержать эту веру против вторжения гуманистической мысли.
Он мог бы стать аббатом, подумалось ему с волной нарастающей гордости, а может быть, и более, чем аббатом. И когда он осознал эту гордость, то предпринял не более нежели символическое усилие, чтобы ее подавить. Ибо гордость, подумал он, гордость и, в конце концов, честность было все, что у него осталось. Когда Бог призвал аббата, ему стало известно разными тонкими способами, что он мог бы суметь стать новым аббатом. Но внезапно испугавшись снова, на этот раз уже поста и ответственности, он обратился с прошением остаться при своей простой келье и простых обязанностях, и, поскольку в ордене его ставили очень высоко, прошение было удовлетворено. Хотя, думая об этом теперь, после обретения честности, он позволил себе подозрение, которому не давал прежде прорваться наружу. Оно было таково: возможно, его прошение было удовлетворено не оттого, что в ордене его ставили высоко, но потому, что орден, зная его слишком хорошо, понимал, каким плохим аббатом он стал бы? С точки зрения благоприятствия общественного мнения, назначение его могло быть позволено ради сопутствующего ему признания, и не был ли орден поставлен в такое положение, что чувствовал себя вынужденным, по крайней мере, сделать предложение? И не вздохнула ли братия от всего сердца с облегчением, когда это предложение было отклонено?
Страх, подумал он — человек, всю жизнь преследуемый страхом, если не страхом смерти, так страхом перед жизнью. Может быть, в конце концов, в страхе и не было нужды. Может быть, после всей его боязливости выясниться, что бояться по-настоящему было нечего. Больше чем вероятно, все дело в его собственной непригодности и недопонимании — что же заставляет его бояться.
«Я думаю, как человек из плоти и крови, — сказал он себе, — а не как бестелесный мозг. Плоть еще крепко держится за меня, кости еще не растворились».