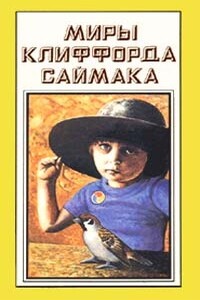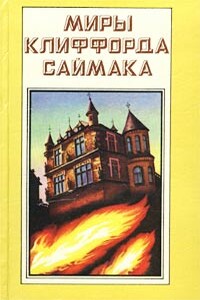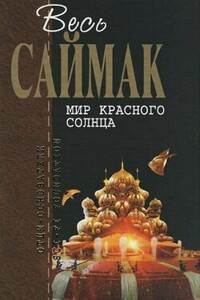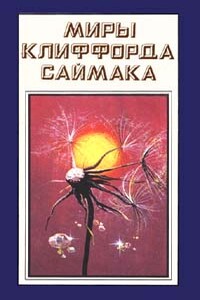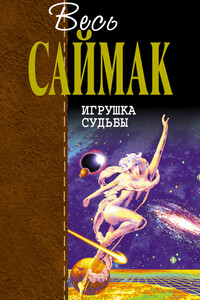Планета Шекспира | страница 15
Потом ум его сжался и череп вновь слился, и нечто отпустило его, и он, шатаясь, потянулся схватиться за поручень пандуса, чтобы удержаться на ногах.
Никодимус был рядом, поддерживал его и озабоченным голосом спрашивал:
— В чем дело, Картер? Что на вас нашло?
Хортон ухватился за поручень мертвой хваткой, словно тот был единственной оставшейся у него реальностью. Тело болело от напряжения, но ум еще сохранял нечто от своей неестественной остроты, хотя он и чувствовал, как эта острота блекнет. С помощью Никодимуса он выпрямился, встряхнул головой и поморгал, проясняя зрение. Краски над морем травы изменились. Пурпурная дымка преобразилась в глубокие сумерки. Медный цвет травы сошел до свинцового оттенка, а небо сделалось черным. У него на глазах появилась первая яркая звезда.
— В чем дело, Каптер? — снова спросил робот.
— Ты хочешь сказать, что не почувствовал этого?
— Почувствовал что-то, — ответил Никодимус. — Что-то пугающее. Оно поразило меня и соскользнуло. Не с тела моего, но с ума. Словно бы кто-то нанес удар мысленным кулаком, но промахнулся, только слегка задев мой мозг.
6
Мозг-бывший-когда-то-монахом был напуган, а испуг приносит честность. Исповедальную честность, подумал он, хотя никогда не бывал на исповеди так честен, как сейчас.
«Что это было? — спросила гранд-дама. — Что мы почувствовали?»
«То была рука Божья, — ответил он ей, — коснувшаяся слегка нашего чела».
«Это нелепо, — возразил ученый. — Это заключение, сделанное без достаточных данных и без добросовестного наблюдения».
«Что же тогда вы извлечете из этого?» — спросила гранд-дама.
«Я не извлеку из этого ничего, — ответил ученый. — Я отмечаю это, вот и все. Как проявление чего-то. Может быть, чего-то далекого в пространстве. Пришедшего не с этой планеты. У меня отчетливое впечатление, что это феномен не местного происхождения. Но покуда у нас не будет побольше данных, мы не должны пытаться его охарактеризовать».
«Это самое наиполнейшее пустословие, какое мне приходилось слышать, — сказала гранд-дама. — Наш коллега священник преуспел больше».
«Да не священник, — сказал монах. — Я вам говорил и говорю: монах. Просто монах. В рваных штанах».
Так оно и было, сказал он себе, продолжая свою честную самооценку. Он никогда не был ничем большим. Меньше, чем ничем — монах, боящийся смерти. Не святой, которым его провозглашали, но хнычущий, дрожащий трус, боявшийся умереть, а ни один человек, который боится смерти, не может быть святым. Для подлинной святости смерть должна быть обещанием нового начала, а он, вспоминая прошлое, понимал, что никогда не мог воспринять ее как что-то иное, кроме конца и полного ничто.