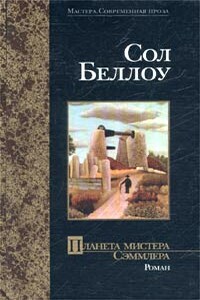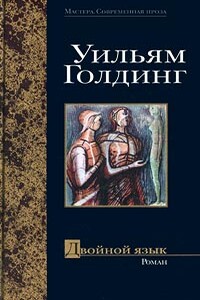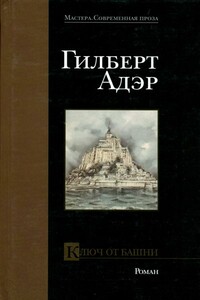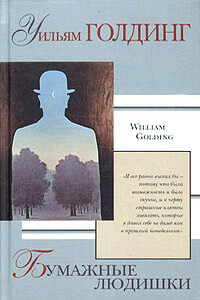Картезианская соната | страница 96
…красные строчки, как черепицы, по которым скользил, проглатывая их, ее читающий глаз, как будто ей только что рассказали о чьей-то любви, но не к ней, нет, к морю поблизости, как в стихах Бишоп, медленный накат слов, расстилающихся с шипением, как жир на огне, короткая вспышка перед рождением столба дыма.
Тетки, примеряющие шляпки, с картонными тарелками на коленях — нет, соседская собака, взлаивающая во сне, — как насчет этого? Флейта, и нож, и сморщенные туфли, которые я против воли пишу через два «нн», — как насчет этого? Ее ухо на шнуре от шторы, обмотанное нитью кольцо, набег моря на послезакатный берег… Я ныне есть та тоска и тяга, которые заполнят строку, когда я в нее улягусь, я вся, мои глаза, мои соски, мои пальцы, и ребра, и губы, да, уложенные в параллель с тем же самым хозяйством Мур, чьи шляпки, по-видимому, были упомянуты в той поэме… поэме… поэме о безмужних тетках, образцовых и подтянутых, с инфернальными глазами, затененными полями шляпы, озабоченных своими заботами, защищающих свою кожу.
облако
Ныне я есть приставка «экс-» к любому «-изму». Я есть то «есть», которым всегда должна была быть. Ныне я есть тот ропот, и та тонкость, и то сияние, я полна знаков жизни, тех длинных списков, которые не сумела составить вовремя, той жизни, которую упустила, потому что боялась: глаз ястреба и совы, и хищности ласки, мальчишеских дразнилок, кррак, и кровавая бумага летит на куст, а ныне я могу, как и они, написать на все аэрозольные заморочки мира, и чувствовать облегчение; у меня есть гордость — загородка от их кружковой, пунктирной дружбы, я плюю на пауков, наступаю на муравьев, сдираю кожицу с бананов, потому что все это мне теперь не стоит труда, как плавание под парусами, как выпекание пирогов, и волосы мои слышат сквозь кольцо от шнура рокот прибоя и грохот камнепадов, вдали от этого окна в Айове, я ныне — приставка «аб-» и «дис-», «воз-» и «без-», я префикс, я часть строки.
По ту сторону пустого двора стоял дровяной сарай, как бы в блюдце солнечного света, там когда-то она практиковалась вопить во весь голос, и свет врывался внутрь, как фары пролетающего мимо мотоцикла, в щели между грубыми досками сарая, и высвечивал топор, которым она не желала пользоваться, вбитый в пень от старого дерева, вокруг которого в свое время строили сарай, а потом срубили, пришлось, объяснял отец, но пень еще мог послужить как наковальня, или верстак, или мясницкая колода, а доколе ты еще на что-то годен, дотоле и жив, поэтому не стоило плакать, когда дерево рубили, и оно медленно накренилось и упало, и ветви его затрепетали и стали биться друг об друга, как при сильном ветре, и сучья затрещали, как на костре, и ствол со стоном стукнулся оземь, рассыпая птичьи гнезда и разгоняя белок; но теперь все ее вопли и стоны исчерпались, она слишком истончилась, не осталось места, а все-таки не могла не думать о благородном, терпеливом, неторопливом, о дереве, превращавшем негодный газ в воздух для дыхания, о прекрасном поверженном, о возвышенных ветвях, павших и изломанных, о гнездах птиц и белок, выброшенных, словно старая шапка, об уничтоженной тени, о смятых паутинных коконах бабочек, похожих на клочки облачка, — о, ему следовало дать умереть стоя, она бы прочла все, что найдется, о законах любви, и к ней прислушались бы, но кучу веток и листьев отгребли в сторону, и листья все еще слегка шевелились, а паутинки