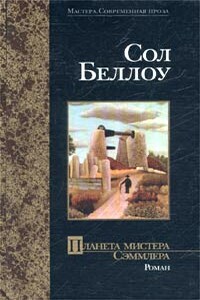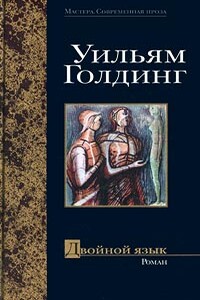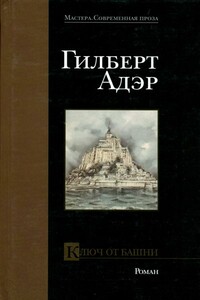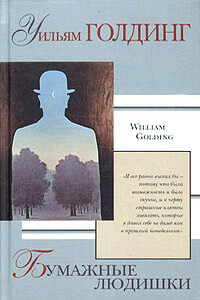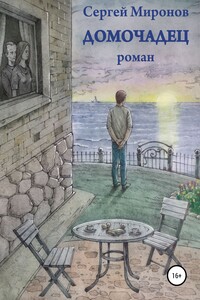Картезианская соната | страница 108
Отец мог кипятиться сколько угодно, Эмма все равно приходила посидеть на гладком голом корне, прислонившись спиною к стволу, среди семян и листьев, травы и ветвей, и читала стихи. Будь она мальчиком, отец бы задал ей трепку. Она чувствовала на себе его взгляд, жесткий, как у птицы. Она переживала его гнев, как дерево переживает сильный ветер. Но однажды сучок, отломившийся еще во время давней бури, но зацепившийся за другие ветки, свалился наконец и упал острием вниз, и ударил Эмму в лодыжку так неожиданно, что она вскрикнула, думая, что ее укусила змея. С недоумением смотрела она, как кровь течет из ранки, а сучок лежал рядом, жесткий, сухой и острый, как наконечник копья. Эмма разревелась — не от боли и не от испуга даже — от такого предательства.
там пыль заполонила подоконники,
Марианна Мур любила применять в стихах словечки вроде «археоптерикса». Очень вычурный стиль. Эдит Ситвел тоже такое любила. Иногда Эмма вдруг принималась бормотать: «…одна волшебная волна и высока, и тяжела…» или даже пела: «…пришла пора жары, муската и сиесты…», и мать прислушивалась в изумлении, потому что Эмма и смеялась-то редко, уж тем более не пела. Даже в церкви она только выговаривала слова.
Теперь, когда ей не требовалось изводить мать отравой или убивать отца в поле лопатой, она осталась одинокой настолько, что даже некормленые куры сбежали от нее, и можно было петь, никого не удивляя, или ругаться, не потрясая отца знанием не приличествующих женщинам выражений. И она действительно пела, только про себя. «…В холодной-холодной гостиной мать уложила Артура…» Она не помнила больше ни одной строки из этого грубого и прекрасного стихотворения. Слова впитывались в ее глаза. Когда она читала, вокруг всегда было лето, и тень ясеня, и слова мягко оседали в памяти, как сажа, как пыльца ясеня, что ложилась на землю медленно, часами, в летние дни, лето напролет, всю жизнь, и прикосновение ее ласкало кожу.
Эмма таскала книжки к дереву целыми пачками. Отец ворчал: «Зачем так много? Держись чего-то одного. Одной за глаза хватит!» Но Эмма не могла держаться чего-то одного. Она начинала читать: «…И ночь пришла под пение дерев растущих…» или «…в холодной-холодной гостиной…», и ощущала тяжелое напряжение. Казалось, ее раздражали и собственные ноги, поджатые к заду, как у того червяка, и руки, вытянутые вперед, как у богомола. Глаза ее становились отсутствующими, и она переворачивала несколько страниц или бралась за другую книгу. Эдит потрясала Эмму красотой этого «…под пение дерев растущих…». Ей приходилось останавливаться, повторять, смаковать, восторгаться (про себя) и удивляться этому чуду, и думать, отчего это бдение при покойнике в Новой Шотландии было таким тягостным, ведь не от того же, что на него смотрели глазами ребенка? «…широкой выпуклая грудь его была, но холодна и к ласкам безответна…» Как этот мальчик в гробу и чучело утки проникали друг в друга… В ее представлении то был образ истинной любви, какой она должна быть: проникают, входят друг в друга, и никто не оказывается снизу.