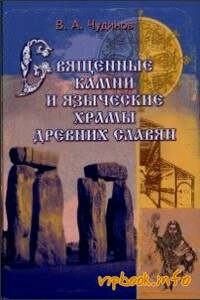Письменная культура Руси | страница 35
Другое дело, что на начальном этапе останавливаться нельзя, а следует идти вперед, несмотря на то, что не все вершины покоряются сразу.
Давая же этому эпиграфисту общую оценку, можно сказать, что он ЧАСТИЧНО ПРОЧИТАЛ 5 СЛАВЯНСКИХ И НЕ СМОГ ПРОЧИТАТЬ ОКОЛО 63 НЕСЛАВЯНСКИХ НАДПИСЕЙ. Кроме того, исследуя ряд текстов, он читал только центральные, не обращая внимание на дополнительные (таких оказалось по меньшей мере 6 из числа рассмотренных). Тем самым сказать, что это письмо открыто только Гриневичем, или хотя бы что оно было им впервые прочитано, нет оснований. ГРИНЕВИЧ НЕ ПРОЧИТАЛ ПОЛНОСТЬЮ НИ ОДНУ СЛАВЯНСКУЮ НАДПИСЬ. А его силлабарий, не содержа многих славянских слоговых знаков, разбавлен знаками рунической и хазарской письменности, а также пиктограммами дьяковской культуры. Вместе с тем, было бы неверным и умалить значение его вклада. Он смог собрать ряд славянских надписей воедино, привлечь внимание общественности к существованию этой самобытной письменности, возбудить сердца энтузиастов мнимой легкостью чтения (ибо он продемонстрировал только конечные результаты, не вводя в свою творческую лабораторию, и отбрасывая многочисленные варианты разложения и интерпретации знаков), показать графическую близость ряда систем письма (играя при этом на струнках панславизма) и продемонстрировать весьма правдоподобные результаты дешифровки (для многих лиц, не вникающих в детали, они кажутся вполне убедительными). Иными словами, определенный общественный резонанс его деятельность возбудила. Но успех этой деятельности лежал не столько в научной области (здесь, как мы показали, его успехи достаточно скромны), сколько в плане популяризации эпиграфики и практической дешифровки. С позиций науки, однако, он весьма небрежен, неаккуратен, бессистемен и в ряде вопросов — невежествен.
Однако, как бы ни оценивать вклад этого исследователя, можно отметить, что с его приходом число полностью или частично дешифрованных текстов возросло, а слоговой характер письма стал много более понятен. Кроме того, становилось ясным, что это письмо не заимствовано на Руси X–XI вв., а является вполне привычным и традиционным. Тем самым наметились контуры такого понимания: этот вид письменности уже бытовал на Руси несколько веков; его корни уходят в письменность других народов, которые, будучи весьма далекими от славян, тем не менее писали не только славянской графикой, но и на праславянском языке (этот тезис в корне ошибочен); слоговая графика частично легла в основу глаголицы и кириллицы; самый ранний праславянский текст восходит к культуре Винча; тот же тип письма существовал и в Черняховской культуре.