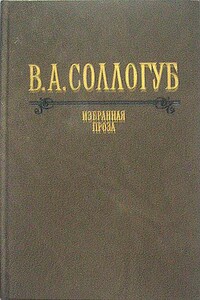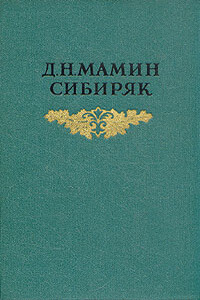Избранная проза | страница 41
Он искал связей. Случай сблизил его с княгиней. Мы видели, как он женился.
Человек более деликатный не довольствовался бы холодным обращением жены своей, но Федоренко был так доволен собой, что не обращал внимания на такие мелочи. Знать вскружила ему голову; восхищение его было невыразимо, когда ему случалось сидеть в театре подле генерала или играть в вист с вельможею. Он нарочно поселился подле княгини и каждый вечер, когда недоставало четвертого, имел честь играть с ее сиятельством и всячески старался проигрывать для поддержания ее благосклонности. Генриетта оставалась одна.
С некоторого времени он в особенности сделался чрезвычайно доволен и важен. Он сторговал — разумеется, как водится, на имя жены своей — прекрасное имение в Малороссии, то самое, где отец его, до вступления в приказные, был дворовым человеком. Это имение было всегда целью его желаний, и по торгам оно оставалось уже за ним. День переторжки был назначен. Федоренко наскоро оделся, вышел в переднюю, надел байковый сюртук и начал надевать галоши.
— Тьфу ты, пропасть! — закричал он вдруг. — Что за дрянь! Калоши проколотые, испорченные… Чьи это калоши? Был здесь кто-нибудь?
— Никак нет, — отвечал человек.
Федоренко смутился. «Калоши мои, кажется: на ноге сидят хорошо. Да кто же их испортил? Неприятно! Я гадости этакой не надену. Пойду без калош — ноги замочу; можно простудиться, схватить насморк, кашель, пожалуй… Очень неприятно!»
Федоренко нанял извозчика и был очень недоволен целый день, тем более что переторжку отсрочили.
Одно за одним
А Шульц?.. А Генриетта?… Что было с ними? Они как будто ожили новою жизнью, и души их с новой силой вооружились против враждебной судьбы. Каждый вечер, когда Федоренко отправлялся к княгине поиграть или повертеться около ее виста, Генриетта отсылала свою горничную, дрожащею рукою отпирала дверь заднего крыльца — и Шульц с трепетом прокрадывался в ее уединенную комнату, и дверь за ними затворялась, и они оставались одни.
Но беседа их была чиста и безгрешна. Модный человек насмеялся бы вдоволь, глядя на них. Иногда они молчали оба; иногда Шульц рассказывал про свое детство, про старичка органиста своего незабвенного, иногда Генриетта припоминала и прежнюю жизнь свою, и первое знакомство с Шульцем, и посвящение свое в таинство музыки. Тогда Шульц садился у ног ее на скамейке и, глядя на нее с благоговением, сливал свой огненный взор с ее небесным взором. И в этом длинном, упоительном взгляде выражались и скорбь прошедшего, и счастье настоящего, и какое-то неясное упование на лучшую, неизвестную участь.