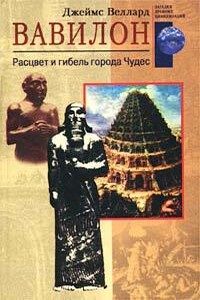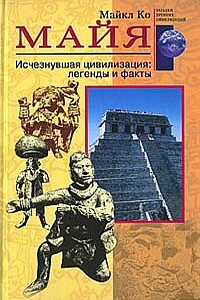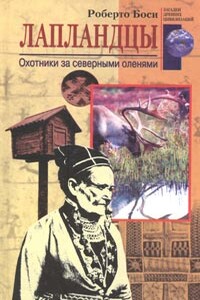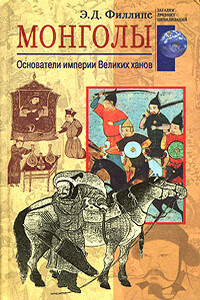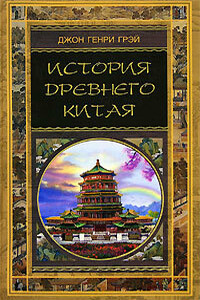Ханаанцы. На земле чудес ветхозаветных | страница 81
Ежегодно воскресающий Ваал противостоит своему смертельному врагу Моту в решающей битве, «происходящей на седьмом году». Это может быть просто эпической формулой для обозначения неопределенного времени. С другой стороны, это отражает особенность местного земледельческого культа, в котором просматриваются черты цикличности.
Известно, что в Древнем Израиле седьмой год имел особое значение, поскольку с такой периодичностью пахотные земли оставляли под парами (Исх., 23: 10; Лев., 25: 3–7). В результате в большинстве земледельческих культур Ближнего Востока считалось, что каждые семь лет обязательно должна случаться засуха или неурожай. Если в течение шести лет все было благополучно, то на седьмой год обязательно ожидали засуху, во время которой не засевали и земли, стоявшие под парами, чтобы не допустить их истощения в следующий период.
Ханаанцы объясняли причину засухи тем, что каждые семь лет боги сходились в решающей схватке, описанной в мифе о Ваале:
Ханаанцы зависели от природы точно так же, как и другие земледельческие народы Ближнего Востока. Они систематически устраивали празднества в честь Ваала и веселились на шумных пирах, получая эмоциональную разрядку от напряженного ожидания.
Вспомним, что именно из греческих земледельческих праздников берет свое начало драма. В Ханаане миф не получил столь высокого развития, но в ритуалах культа плодородия вполне различимы зачатки драмы. В процитированном выше мифе о Ваале есть уничижительная характеристика бога утренней звезды Атхара, содержащая явные элементы иронии: его голова не доходила до полога его трона, его ноги свешивались со стула, так что они не касались подножия.
В другом, меньшем по объему тексте, где в миф внесены элементы мимического действа, говорится, как пожилой Эль стремится быть молодым и ублажает двух женщин, чьи мужья хвастаются своей силой и не догадываются об истинном положении вещей.