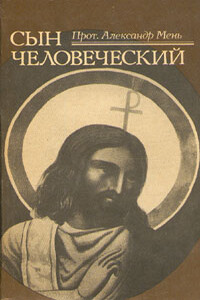Сравнительное богословие | страница 33
Понимание спасения как удовлетворения делами добра за грехи искажает взаимоотношения Бога и человека, ибо оно исходит из стремления к взаимной выгоде. Бог и человек вступают в своего рода сделку, лишенную нравственного отношения друг ко другу или "правовой союз," по определению патриарха Сергия: человек приносит Богу свои добрые дела, чтобы избавить себя от Его гнева, а Бог удовлетворяет ими Свою справедливость. "Бог, по католическому учению, ищет не святости, как общего устроения души, а именно обнаружений этой святости вовне; оправдывают человека именно дела"30. Такой род отношений Бога и человека неизбежно обесценивает духовное, нравственное содержание добра, творимого человеком в уплату за грех. Добро, творимое в уплату за грех, приобретает характер самонаказания, становится нравственно безразличным предписанием закона, родом жертвоприношения и, естественно, остается чуждым его природе.
Религиозная и нравственная ущербность такого понимания спасения заключается в том, что изменяется само содержание той перемены в отношениях Бога и человека, которая называется спасением. В католическом миросозерцании смысл спасительного удовлетворения справедливости Божией состоит в том, чтобы сменить Его гнев на милость, изменить отношение Бога к человеку, вернуть то расположение, которого Он лишил человека после грехопадения. Соответственно, необходимость изменить отношение самого человеку к Богу неизбежно мыслится второстепенной, хотя именно в этом подлинный смысл спасения, ибо не Бог должен переменить Свое отношение к человеку, удовлетворившись предложенными добрыми делами и отменив наказание, а человек должен изменить свое отношение к Богу, Который никогда не изменяет Своей любви к нему.
Изменение отношения человека к Богу, т. е. нравственное, духовное изменение природы человека неизбежно становится второстепенным, ибо спасение мыслится, прежде всего, как избавление от наказания за грех, а не от самого греха, "как избавление от страдания, причиненного грехом"31. Само целеполагание спасения, в данном случае, не требует внутреннего изменения человека, ибо оно заключается в обратном — в стремлении изменить отношение к себе Бога, как писал об этом патр. Сергий: "Спасение … как перемена гнева Божия на милость…, действие, совершающееся только в Божественном сознании и не касающееся души человека."32.
Но если спасение совершается лишь в глубинах Божественного сознания, каким образом оно водворяется в душе человека, лишенной внутреннего изменения? Освобождение от греха приняло в религиозном сознании католичества образ отчужденной благодати, "самодвижущейся праведности, которая водворяется в человеке и начинает в нем действовать помимо и даже почти вопреки его сознанию и воле." Очистительное действие Бога не требует духовной готовности человека, оно посылается ему за исполнение некоей меры добрых дел и перерождает его душу вне нравственного усилия с его стороны, но "оправдание есть дело не магическое, а нравственное"