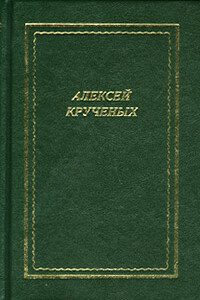Собрание стихотворений | страница 34
И уже в другом стихотворении — вечерний свет на холмах — свет Грааля. И ни капли напыщенности или приподнятости, просто редчайшая интимность. Золотой неподвижный август — опять я вижу этот стеклянный купол неба, это золото недвижного света. И называется стихотворение — «Мидас». Греческий царь все превращал в золото, Сильвия Плат — в стихи.
Вот странное чувство: у нее очень много трагических стихов. Очень много о смерти; и вот, при всем при этом, она для меня — невероятно гармоничный поэт. Все, чего она коснулась, пронизано любовью. Она пишет о старом бабушкином доме, на который наваливается «море неряшливое», говорит, как достает она любовь из этих камней, и возникает впечатление, что она вообще отовсюду достает любовь. Ей удаются стихи и о «женской богадельне», и о женщинах, чинящих сети в крошечном приморском городке Новой Англии… А когда читаешь это стихотворение о рыбачках, совершенно естественное, без капли выспренности, то вдруг оказывается, что женщины эти — античные парки. Мотив рока возникает за текстом. И тут, наверно, ярко проявляется одна из особенностей Сильвии Плат — постоянное укрупнение и осмысление повседневности. В мире Сильвии Плат всё увиденное значительно: любая картина становится новой клеткой личности. И самый большой страх — потерять, не успеть впитать убегающую картину. Забытое умирает, а вместе с забытым умираешь и ты сам. Острота восприятия каждого мгновения и каждого впечатления — гарантия самого существования поэта, подтверждение бытия личности.
Совершенно удивительно, сколько разных, с трудом совместимых литературных реминисценций вызывает у русского читателя ее поэзия.
Пастернаковский пантеизм — этот мир, в котором деревья равнозначны человеку, в котором у древних замшелых камней есть душа, притом не романтическая, не аллегорическая. Просто наличие души у камней, у деревьев столь же естественно, как и у нас. И совершенно естественно стремиться к тому, чтобы деревья приняли тебя в свой круг, поняли.
А безудержность ее метафор и, порой, ритмическая ткань — тянут к Маяковскому.
Дневниковость каждого описанного мига, постоянное, ежесекундное осмысление мира, рефлексия и полное отсутствие котурнов напоминают о Бродском. Так же, как Бродского, торопливые ритмы века не ведут ее за собой, а наоборот — вызывают желание уравновесить их медленно льющейся медитативной и в то же время предельно напряженной стихией стихотворного потока. Стихи ее — тоже сплошной поток, и когда читаешь их подряд, возникает ощущение очень интимного знакомства с автором.