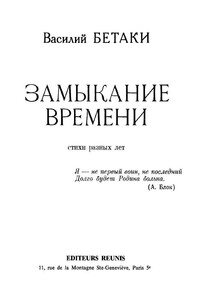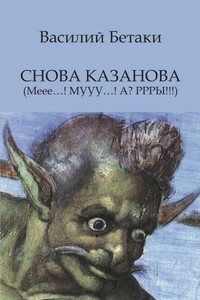Русская поэзия за 30 лет (1956-1989) | страница 88
И всё-таки есть поэты, которые очень сильно объединены своим временем и очень упорно в нём сидят. Я бы только их и называл шестидесятниками, о них я напишу ближе к концу этой третьей части книги.
Итак — третья часть:
1. Питерский домовой. (Роальд Мандельштам)
2. Противовес небытию (Александр Кушнер)
3. За гранью трагедий (Наталья Горбаневская)
4. Взлёт на одном крыле (Юнна Мориц)
5. В поисках зелёных цветов (Николай Рубцов)
6. Человек в натуральную величину (Глеб Горбовский)
7. Возможность реализма (Олег Чухонцев)
8. Ученица Фата-Морганы (Новелла Матвеева)
9. «Спасите наши души» (Владимир Высоцкий)
10. Шестидесятники
11. Бунт с дозволения цензуры (Евгений Евтушенко)
11. Безумный, безумный мир (Андрей Вознесенский)
12. Тайна вещей, выходящих из себя (Белла Ахмадуллина)
11. Всадник весенней земли (Виктор Соснора)
26. ПИТЕРСКИЙ ДОМОВОЙ (Роальд Мандельштам)
Почти полвека тому назад умер в безвестности молодой поэт. По странному совпадению он был однофамильцем одного из лучших поэтов двадцатого века — Осипа Мандельштама.
Но звали его Роальд, в честь Амундсена. Хотя физически Роальд был полной противоположностью великому путешественнику. Болезненный, месяцами прикованный к постели из-за костного туберкулеза, приносившего неослабевающие боли, он только мечтать мог о путешествиях…
Весь мир Алика — питерские кварталы, те, которые мы зовем Петербургом Достоевского: район Сенной, Мойка, Крюков канал, Гражданская, Подьяческие… Ну и далее, вся так называемая «Коломна» (где, кстати, происходит действие пушкинской мещанской комедии «Домик в Коломне»). Наши обшарпанные дворы, забитые дровяными сараями, булыжники мостовых, проваленных по центру, какие-то распивочные, которые открывались в сороковых годах в 7 часов утра… Весь этот город, та сторона его, которую и позднее, когда появились иностранные туристы, мало кому показывали, этот город, «достоевский и бесноватый», имел пятьдесят лет назад своего поэта.
Эти таинственные даже в то прозаическое время, хотя и ничем не примечательные кварталы, где и в шестидесятые годы можно было встретить все те же фигуры — то ли пьяный работяга топает наобум лазаря, то ли это Раскольников с топором под полой?… Таков был наш послевоенный город, в котором мы становились взрослыми, — пятнадцатилетние, торопившиеся к своему двадцатилетию, странным образом словно попавшие между поколениями мы, те, кто родился в 29–33 годах… Алик был наш ровесник и наш полудетский поэт.