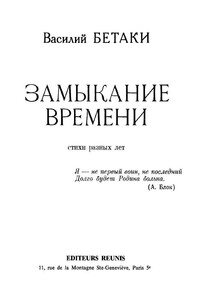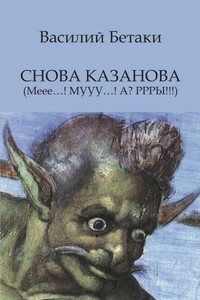Русская поэзия за 30 лет (1956-1989) | страница 31
Собственно говоря, самостоятельности в нем не было никогда, кроме самых первых стихов:
«…Тревогу о приснившейся стране,
Где без сомнений скрещивают шпаги,
Любовь в груди скрывают, точно клад,
Не знают лжи, и парусом отваги
Вскипающее море бороздят…»
Эти стихи об Александре Грине несут на себе неистребимую печать Гумилева, но не за это я упрекаю автора их, а за то, что под нажимом «внутреннего редактора», даже не дождавшись замечаний редакторов издательских, он основательно перекроил свои стихи. В нескольких уже послевоенных изданиях исчез со стены гриновской комнаты «портрет Эдгара По» — ведь в этот период «буржуазного мистика» в СССР не жаловали, да и упоминание не русского поэта тогда грозило тем, что автора запишут в космпополиты со всеми «организационными последствиями». И взамен строчки «и на стене портрет Эдгара По» появилась строка, в которой место американского классика заняло какое-то «фото корабля»…
Или вот ещё замена: в довоенном варианте стихотворения было
«Из дерева я вырезал фрегат,
И над окном повесил в шумной школе
На радость смуглоскулых татарчат».
А в послевоенных изданиях поэт выселил татарчат из своих стихов, как Сталин из Крыма, а строка стала ещё оптимистичнее: «На радость всех сбежавшихся ребят».
Сходная операция проведена (опять же во избежание обвинений в «безродном космополитизме») над одним их лучших стихотворений поэта, над «Новгородской Софией»:
«Еще детинца тусклы ризы,
А даль прозрачна и пуста.
София, голубь темносизый,
В лазурных лужах пролита»
……………………………………………….
«Он весь — тугая соразмерность,
Соотношение высот,
Ассиметрия, тяжесть, верность
И сводов медленный полет.
Пчелиный разум Цареграда
Лепил апсиды и притвор…»
А после 1948 года опять же, чтобы не угодить в космополиты, поэт сменил строителей собора:
«Умели пчелы Новаграда
лепить апсиды и притвор".
Впрочем, и не такое бывало тогда — ведь защитил кто-то диссертацию, доказав, что архитектор Юрий Фельтен не создавал решетку Летнего Сада! Фамилия была у него подозрительно иностранная! Ну, и приписали создание решётки кузнецу Зайцеву!)
И вот в концовке стихотворения о Софийском соборе появляются пионеры, как весёлый контраст мрачной прохладе храма. Эти пионеры регулярно возникают в конце чуть ли не каждого стихотворения на темы прошлого, а в стихах о Царскосельских парках они, вообще единственный увиденный поэтом атрибут современности, и связаны с античными статуями толстой белой ниткой…
Но не все же поэту переделывать старые стихи, приспосабливая их в каждом новом издании к новому зигзагу идеологической линии! И в стихах 1959 года мы видим сжигание акмеистических кораблей во всех смыслах: