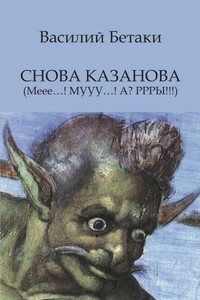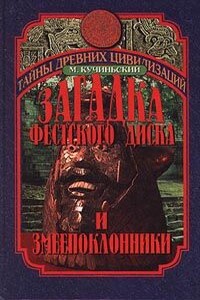Русская поэзия за 30 лет (1956-1989) | страница 26
Мы в дикую стужу в разгромленной мгле
е Стоим на летящей куда-то земле,
Философ, солдат и калека.
Над нами восходит кровавой звездой,
И свастикой черной, и ночью седой
Средина двадцатого века!
Написано пером — не вырубишь топором!
Восходящая свастика не противоречила кровавой звезде" ведь читали все мы рассказ Риббентропа о том, что он «в Кремле «чувствовал себя как среди старых партийных товарищей» (так и написано у него parteigenossen).
… Но если в "Песне о ветре" было что-то кроме пафоса разрушения, то в «Кухне времени» — только ярость ради ярости. Ну, а когда этот свой ветровой настрой поэт обращает на трудовой энтузиазм все тех же зловещих тридцатых годов, то остается от всей романтики только его искреннее желание быть рабом, и даже попросту стать "винтиком-шпунтиком" сталинской индустриализации.
Мастерство ранних стихов кажется уже ему чем-то недостойным эпохи, и он просится в переплавку, как китаец шестидесятых годов:
Наполни приказом мозг мой,
И ветром набей мне рот,
Возьми меня в переделку,
И двинь, грохоча, вперед!
Самое страшное, что при всей кажущейся пародийности, эти стишки не пародия, не стёб, это ведь написано всерьез!
Что-то похожее на культуру подозрительно, интеллигента надо перековывать!
(так есть у него длинное стихотворение о том, как неграмотный сын сельского узбекского бедняка старается разоблачить подозрительного учёного…).
А Луговской в этом и ищет свою романтику. Ну и находит ее в колониальной тематике. Неуклюже и понаслышке подражая Киплингу, он убеждает читателя и себя, что «Большевики пустыни и весны» освобождают узбеков, туркмен и прочих людей Советского Востока». От чего — неясно, но освобождают. «Мы несем цивилизацию в дикую пустыню, поскольку мы — в социализме, а они — в феодализме, ну а культуру феодализма надо ломать, это наша священная миссия». Таково схематически содержание книги «Большевикам пустыни и весны».
Это примерно содержание половины его поэзии, если избавить ее от рифм и прочего, что Луговскому теперь явно необязательно..
Он, безусловно, искренен в этом своем пафосе, и когда оказывается, что никаких садов в пустыне так и не насадили, поэт, спасая свою веру, обращается к голому, крикливо-одическому тону, и сочиняет гимны уже не грозному людоедству, а обычной бюрократии. Это уже в первые послевоенные годы.
Кстати, стихов о второй мировой войне у Луговского почти нет.
А в 48, одном из самых страшных советских лет, — пожалуйста:
На столах обычные предметы,