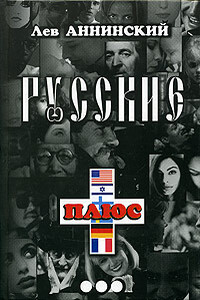Три еретика | страница 31
Второе мое замечание касается именно пределов той эпохи, когда текст появляется. „В Шекспиры…“, „в Гомеры…“ — что за разговор! Современному читателю должен показаться суетным тот воспаленный интерес, с каким критики 1850 года обсуждают распределение мест в литературе. Это у них без конца: кто первый — Гончаров или Тургенев? Является ли Достоевский в „Белых ночах“ гением или только талантом? Островский — самый идеальный носитель русского миросозерцания или не самый? Кто важнее: Писемский или Щедрин? Какая–то феерия „персональных дел“… Будем, однако, терпимы к нашим славным предтечам: в „персональной форме“ решаются вопросы принципиальные, и еще от Белинского идет эта манера ставить вопрос: Гоголь или не Гоголь главный русский писатель? Когда пятнадцать лет спустя Григорьев скажет, что главный русский писатель — Островский, либералы возмутятся именно новым персональным назначением, и истина будет прокладывать себе дорогу через соответствующие страсти, хотя истина будет касаться отнюдь не персональных назначений, а смысла эпохи.
Аполлон Григорьев — первый, кто додумывает до конца интуитивно почувствованный Островским смысл „Тюфяка“ — каким этот смысл предстает кружку „Москвитянина“.
В 1852 году Григорьев пишет следующее:
„Тюфяк“ — самое прямое и художественное противодействие болезненному бреду писателей натуральной школы; герой романа, то есть сам Тюфяк, с его любовью из–за угла, с его неясными и не уясненными ему самому благородными побуждениями пополам с самыми грубыми наклонностями, с самым диким эгоизмом, этот герой, несмотря на то, что вам его глубоко болезненно жаль, тем не менее — Немезида всех этих героев замкнутых углов (выделено мной. — Л. А.), с их не понятыми никем и им самим не понятными стремлениями, проводящих „белые ночи“ в бреду о каких–то идеальных существах…»
По иронии судьбы именно автор «Белых ночей» десять лет спустя будет печатать в журнале «Время» статьи А.Григорьева, где тот доведет до логического конца свою концепцию. И где Писемский, здоровый, грубоватый и «низменный», будет трактован как писатель более важный для русской культуры, чем Гончаров с его деланным смирением перед узкой практичностью (это мнение Григорьева. — Л.А.), чем Тургенев с его бессилием перед фальшивыми ценностями (тоже мнение Григорьева. — Л.А.), чем Толстой с его (по Григорьеву) несколько искусственным выходом к безыскусности.
Опять–таки не будем спорить по «персоналиям»: Толстой еще не закончил «Казаков» и еще не начал «Войны и мира»; Достоевский, со своей стороны, много чего начал и закончил после «Белых ночей», казавшихся молодому Григорьеву сентиментально–натуралистическим бредом. Суть в том, что именно видит А.Григорьев в Писемском и почему так высоко ставит его. Точнее: как он все это видит в «Тюфяке» — самом сильном, по его мнению, произведении Писемского?