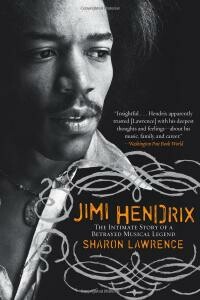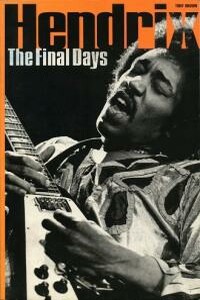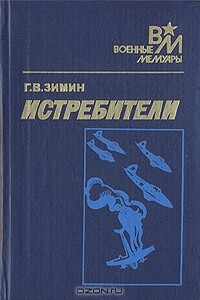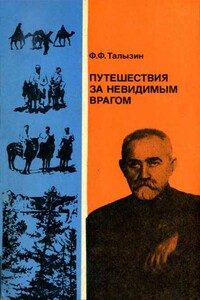Бородин | страница 27
«А ведь я, господа, совершенно одинок на свете, — хочется ему сказать в заключение своей надгробной речи. — Тоска, господа, тощища!» И что до того, что Стасов и Кюи в восторге от речетатива Ярославны, что Лист пишет ему лестные письма и зовет опять в Веймар, что из немецкого словаря приходит запрос — сколько ему лет (ах он не знает, сколько ему лет!) — не в этом же человеческое счастье, и не в верности больной, старой жены, и не в шумном от молодежи доме, — где, между прочим, негде приткнуться, — не в этом, но в чем? Если бы он был настоящим, как Корсаков, каким был Модест, то счастье было бы в самом речитативе, в том, как приходит к нему все это, минута, когда вдруг является «Море» или «Для берегов»; но он ведь не настоящий, он ведь раритет, и жизнь его — курьез, и теперь уже поздно что-либо менять и самому меняться.
Поздно не потому, что он устал, обрюзг, что ему пятьдесят. Сил в нем много, он мало тратил себя и мог бы жить сто лет — немножко сочинять, немножко преподавать… Поздно потому, что невозможно, немыслимо сказать: я выбрал. Я ухожу из академии; я — музыкант. Что скажет на это теща? Синклит профессоров? Что скажут ассистенты? У него есть обязанности: что скажут дамы из совета женских врачебных курсов? Анна Павловна Философова? Что скажут музыкальные враги? Заслуженный профессор Бородин решил, наконец, поступить в консерваторию.
Или, например, в Москве (где особенная напускается им на себя важность), что бы сказали там, если бы он начал свою жизнь сначала? Как вежливо и снисходительно улыбнулся бы Чайковский. Они сидят у Тестова вчетвером: Бородин, Балакирев, Чайковский и Танеев; Балакирев, Чайковский и Танеев разговаривают, как профессионалы, грубо сказать: карман их зависит от их вдохновения. А он между ними чувствует себя гостем. Но между Менделеевым и Меньшуткиным он тоже — гость. И пусть этого не чувствуют ни те, ни эти, он-то это чувствует и не перестанет ощущать никогда.
Параллельно с «Князем Игорем» шла у него и другая музыкальная работа — квартет, романсы, третья симфония, — но все это как будто делалось само, а когда не делалось — не стоило беспокоиться: когда-нибудь сделается. Этого своего убеждения он стыдился только перед иностранцами — русские понимали его и ему сочувствовали. Но Листу никак нельзя было признаться в нем. «Что вы делаете? Почему так мало пишете? Чем вообще занимаетесь?» — кричал и стучал тростью Лист во второе их свидание, когда Бородин, спустя четыре года после веймарского угара, опять поехал в Германию. «Мосье Бородин, так нельзя. Ваша опера не сдвинулась с места». Что было Листу здесь до науки, до женских курсов, до мелочей его домашней жизни, разъедающих его бытие? Ему никак нельзя было бы рассказать стасовское сравнение Бородина со слоном и его навозом. «Ценнейшая вещь слоновый навоз. И вот ходят-ходят за слоном целыми днями, чтобы не упустить, подобрать, а все нет. Так и я за вами, Александр Порфирьевич, — хожу, хожу, не упадет ли что — касательно «Игоря» или романсика какого». Листу надо выдумывать что-нибудь: славянскую лень, болезнь жены — что-нибудь скучное и не очень верное. Но он смотрел остро и пронзительно и требовал, чтобы Бородин тут же, сейчас же делал переложения «Средней Азии» для четырех рук. «Да, да, натощак, до всякого кофе. Вот вам бумага, вот перо». И Бородин принимался исполнять его волю, выставляя над текстом свое посвящение мейстеру.