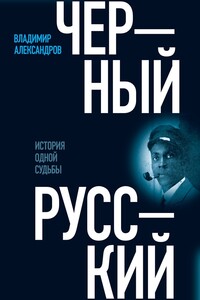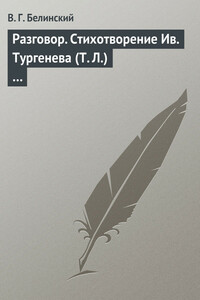Набоков и потусторонность | страница 32
Образ «смертного <…> заглядывающего за свои пределы» приводит на память воображаемую сферическую темницу времени, чьи стены сокрушает или преступает космическая синхронизация. Допустимо также предположить, что затем столь настойчиво, на протяжении всей мемуарной книги Набоков твердит о своей неизбывной ненависти ко сну, чтобы лишний раз подчеркнуть высокий статус бодрствующего сознания.
Художественное вдохновение — не единственная сила, что возносит писателя на вершины жизни. Не меньшую роль играет страсть к бабочкам, которая, как известно, опирается у него на солидную научную основу: «высшее для меня наслаждение — вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства — это наудачу выбранный пейзаж… где я могу быть в обществе бабочек и кормовых их растений. Вот это — блаженство, и за блаженством этим есть нечто, не совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется, чтобы заполнить ее, все, что я люблю в мире» (IV, 213).>{65} Подобно космической синхронизации, этот опыт души пробуждает у Набокова сильное чувство трансцендентальной потусторонности — «благодарности, обращенной… не знаю, к кому и к чему, — гениальному контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного счастливца» (IV, 213). В другом случае Набоков прямо связывает явление космической синхронизации и опознание мимикрии в природе. Вот как он описывает момент зарождения стиха, «ниспадающего с неведомых высот»:
Подстрочный перевод: «путаница звуков, леопарды слов, / листоподобные насекомые, птицы с глазоподобными пятнами / сливаются и создают немой, напряженный / миметический узор идеального смысла» («Стихотворение»).
Еще одна грань опыта, также имеющая в глазах Набокова метафизическую подоплеку и также связанная с ощущениями, сходными с космической синхронизацией, — любовь. В мемуарах он подчеркивает, что всякий раз при мысли о любимых — жене и сыне — у него возникало острое желание сориентироваться по отношению к ним и мгновенно провести «радиусы от этой любви, от нежного ядра личного чувства к чудовищно ускользающим точкам вселенной» (IV, 294). Это переживание можно наиболее адекватно охарактеризовать как мистическое, ибо обволакивает автора чем-то «значительно более настоящим, нетленным и мощным, чем весь набор вещества и энергии в любом космосе» (IV, 294). Любовь смертного должна вбирать в себя «все пространство и время» затем, чтобы, по словам Набокова, «смертность унять». Это позволяет «помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унизительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования» (IV, 295). Таким образом, Набоков проводит прямую причинную связь между острым переживанием любви и интуитивным проникновением в трансцендентальные дали космоса.