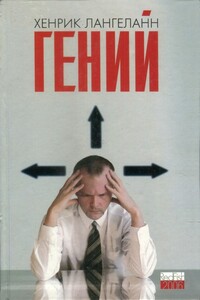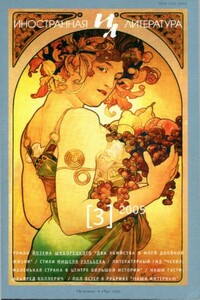Катерина | страница 104
Но это продолжалось недолго. Запах чего-то горящего коснулся моих ноздрей. Сначала мне показалось, что поднимается он от оврагов, где днем паслись коровы. Запах этот не был тяжелым, удушливым, он почему-то напомнил мне те гулянки на траве, что устраивали летом в рощах Мария и ее приятели. Парни, бывало, крали птицу в селе, забивали ее и жарили на угольях. Было мне тогда около двенадцати, и вид битой птицы, распростертой на горячих углях, очень пугал меня. Мария сердилась и нагоняла на меня еще большего страху:
— Ты не должна бояться! Если ты так пугаешься мертвой птицы, то кто спасет тебя от рук убийцы?
Уже в те годы вела себя Мария так смело и дерзко, будто была она не юной девушкой, а диким лесным созданием.
Страх, который испытывала я в те мгновения, словно вернулся ко мне, и я заставила себя двинуться вперед. Ноги мои отяжелели, но я шла, не спотыкаясь. Ночной свет стал более приглушенным, однако все вокруг было ясно видно. Дуга стелились по склонам холмов, погруженных в голубизну.
Я чувствовала что-то необычное, но что — понять не могла.
Голова моя словно стала пустой, и с каждым шагом это ощущение пустоты все усиливалось. А еще я почувствовала сильное желание выпить. Долгие годы я не прикасалась к рюмке. То, что пили женщины в нашей тюрьме, было хуже помоев. Я вспомнила, что в свое время я пообещала Биньямину не пить, но сейчас я знала, что не сдержу своего обещания. Если вдруг появится крестьянин и протянет мне стакан — я вырву его из рук.
Так стояла я, вся во власти нахлынувшего желания, и тут распахнулись небеса, и горний свет залил голубые луга ослепительным сиянием. Я подняла голову и пала на колени.
— Катерина! — услышала я голос.
— Я — раба твоя, Господи, — ответила я тотчас.
— Сними обувь с ног твоих, ибо свято место, на котором ты стоишь.[4]
Я сняла обувь, распростерлась на земле и закрыла глаза. Долгое время пролежала я, погруженная в себя, однако голос не прозвучал вновь, не заговорил со мной.
Когда я, наконец, подняла голову, я увидела, что неподалеку от меня стоят какие-то заброшенные развалины, вернее, две стены рухнувшего дома. Пустые оконные проемы заливал свет.
— Что мне делать, Господи Боже мой? — произнесла я, сама не зная, о чем я говорю.
Небо не открылось вновь, но свет оставался ослепительным и вслушивалась я изо всех сил. Приблизившись к развалинам, я увидела, что глаза не обманули меня: когда-то это был еврейский дом. На дверном косяке еще были видны следы мезузы — особого футляра, который прибивается справа при входе в дом: в него вкладывается кусочек пергамента с написанной на нем молитвой. Все в доме — каждая полочка, каждый крючок, каждый гвоздь — были вырваны с корнем, а то, чего не доделали руки человеческие, довершили ветры.