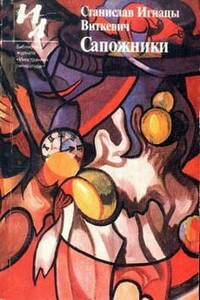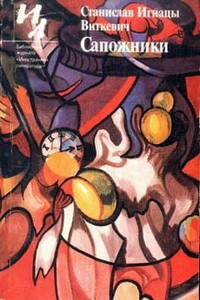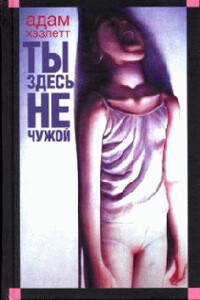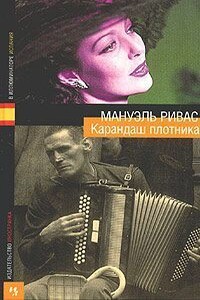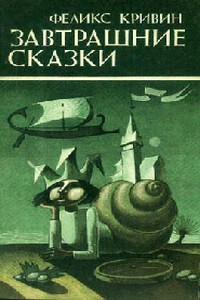Наркотики. Единственный выход | страница 20
Все это и множество прочего оставило след в его произведениях, при знакомстве с которыми то и дело возникают аналогии с сочинениями старших и младших современников, впитавших те же соки культуры: Джойса, Кафки, Чапека, Хаксли, Шпенглера, Гессе, Хайдеггера, Юнга... У них много перекличек из-за общности эпохи, и у каждого немало совпадений с контекстом творчества предшественников, ровесников и потомков. При чтении Виткевича вам вспомнятся и Гоголь, и Щедрин, и Достоевский...
Родство мира Виткация с русской культурой несомненно, эти связи особенно богаты. Эксцентрика и гротеск его сценических текстов сродни атмосфере пародийных пьес Козьмы Пруткова, поэтического театра Блока и Маяковского. Вдохновляющие импульсы мог дать ему русский театр. Ведь именно в годы, когда он жил в России, плодотворно работали Михаил Чехов, Вахтангов, Таиров с его «театрализацией театра», набирала обороты «биомеханика» Мейерхольда, действовали заумный театр Крученых и карнавальные труппы Евреинова (чьи идеи, впрочем, Виткевич не одобрял, как и метод Станиславского).
Для Виткевича имел серьезное значение контакт с русским изобразительным искусством. Можно уверенно предположить, что он общался с художниками, знал манифесты авангарда. Вполне вероятно, что помимо Кандинского, на которого он прямо ссылается, Виткевич столкнулся с творчеством Врубеля, Филонова, Малевича, Кульбина... Возможно воздействие на него всей русской литературы и философской мысли: от «Слова о полку...» до Чехова, от Аввакума до Гурджиева. Его литературному наследию по разным признакам есть параллели у Андреева и Грина, Белого и Хлебникова, у Замятина, Булгакова и Платонова.
«Самое важное в искусстве — чистота формального порядка», — эти слова Хармса мог бы произнести и Виткевич, столь же люто ненавидевший «объективную видимость». Но что с того? Так ли важно — знал ли он Босха и Арто, читал ли Гомера и Брехта? Он использовал традицию культуры как точку отсчета, давая ей свою проблемно-метафорическую трактовку. Но более всего в его творчестве «цитат» из самой реальности. Он вел свою линию: словно жонглировал знаками, но на самом деле — писал «потрохами», добывая прекрасное и неподдельное из собственной души. Главное сделано им самим.
Тексты Виткация читаются как единство. Авторская личность созидательно проявляет себя в раскрытии всеобщей взаимосвязи (в этом отличие речи Виткевича от децентрализованного, внеличностного постмодернистского полилога). Противник «деструктивной работы шакалов дадаизма и сознательных шарлатанов», он издевался над претенциозными имитациями гениальности, ведущими к «неопсевдокретинизму». Множественная включенность в интертекстуальную ткань — признак самобытности его творчества. Воспринимая полноту времен в их взаимопроникновении как поэтическое настоящее художник восстанавливает целостность мира, демонстрирует его неуничтожимость.