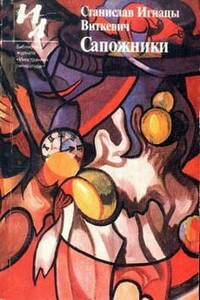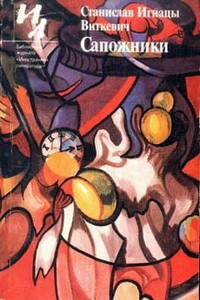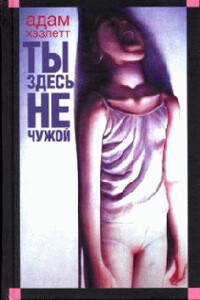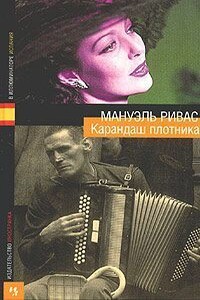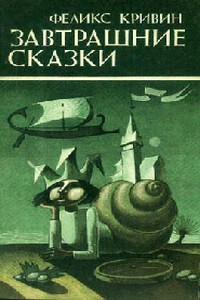Наркотики. Единственный выход | страница 17
Спорщики живут «во времена чудовищные, но в своем роде прекрасные», при авторитарном режиме под властью партийно-бюрократической клики, именуемой «ПЗП», во главе с перекочевавшим из пьесы «Сапожники» Гнэмбоном Пучимордой (есть, впрочем, и оппозиция — враждующие партии «детеков» и «эмзетфетистов»). «Замордизм» госсистемы не занимает автора: модель духовного упадка героев применима к любому месту и времени.
«Жизненный дилетант» Изидор намерен разрешить проклятые вопросы своей «Системой Абсолютной Истины» — в трактате «Общая Онтология, новым методом изложенная». Фанатик, без конца формулирующий «метафизическое откровение», не в силах придать ему убедительную форму, он — двойник самого автора. Второй двойник — Марцелий, «величайший (и последний) на всем земном шаре художник», готовый принять смерть ради искусства, — пытается соединить в своих композициях «конструктивизм высшей марки» с «прежним сюрреализмом».
Позицию автора и точки зрения героев трудно развести, не ясно, что сказано в шутку, что всерьез и чего здесь больше: искусной стилизации или реального документа уныния и разочарования. Если что-то утверждается, то только для того, чтобы тут же быть опровергнутым. Виткевич, словно отрицая дело своей жизни, сомневается в способности искусства и философии судить о мире: их претензии иронически противопоставлены, но цена им одна. Творят не ради красоты, мыслят не ради истины, а желая «оправдать» свое бытие в индивидуальной экспрессии. Ни одна проблема не разрешима, и все же единственный выход, возможность избыть ужас существования — снова и снова говорить, пускай блуждая вокруг да около сути, одурманивая себя словами, но все равно пытаясь найти в абсурде смысл.
Творческая стратегия Виткевича обретает уже абсолютно игровой, наркотически смещенный облик. Сдвиг в психоделику избыточности и пустословия, издевки над собой, предсказуемости и хождения по кругу, сверхрефренность последнего романа — воплощенный вызов и логическому и образному постижению бытия. Посрамляется все, кроме тайного предпочтения повествователя — надежды на переход в состояние сверхчувственного, внеиндивидуального просветления. Четвертый роман Виткевича аналитичен, «антироманен» более, чем все прежние, но, в сущности, он лишь замыкает круг. Книга не завершена, поскольку конца и быть не может, — финалы менее всего были интересны автору.
Вообще все его романы: и «622 падения Бунго, или Демоническая женщина» (1910—1911), и «Прощание с осенью», и «Ненасытимость» — решительно не бестселлеры, не из числа «хорошо написанных». В них нет архитектонической стройности, прозрачности и легкости стиля. Их бранили и бранят за манерность, описательность, громоздкость, импровизационность. Однако в их вызывающем несовершенстве есть умысел. Жанр романа существенно трансформирован Виткевичем, поэтому упреки с «нормативных» позиций не имеют смысла. Взаимопонимание с читателем волнует автора меньше, чем критика жанра, и неизмеримо меньше, чем фиксация эпического порыва — весьма, впрочем, своеобразного, — подчиненного «метафизической» сверхзадаче.