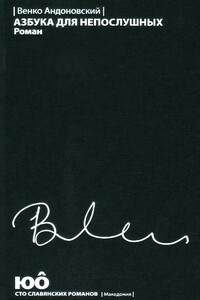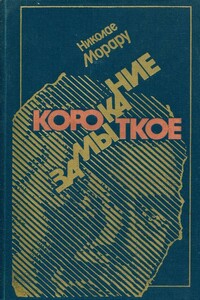Пуп земли | страница 61
На все был готов пойти Лествичник, тогда еще Буквоносец ложный, только чтобы отцова слава не уплыла в чужие руки. Ибо душа такая, злобная и себялюбивая, у него была: если он не мог насладиться чем-то, то и другому не давал! Была бы у него власть над солнцем, непременно он загасил бы его в день, когда пришлось бы ему упокоиться, чтобы и остальных забрать с собою. Утопленником был Лествичник, и нужно ему было, чтобы с ним кто-нибудь утонул, с ним вместе на дно пошел. И потому я его трусил — и вдвойне боялся, потому что и другого не сделал; чернила выкинул за семинарией, а ему сказал, что все сделал, как он приказал. И дня только ждал, когда обман мой откроется, когда увидит он листки Миды, не погибшие, в семинарии и когда удары его посыплются на мою спину.
На крест на спине моей. О котором я расскажу вам вскорости, когда время придет.
14
На следующий день Философ разбудил меня еще до рассвета, постучав в дверь моей кельи. Через несколько минут мы уже спускались в западную комнату в подземелье храма. Он впереди, со свечой в руке, путеводным огоньком, за которым я шел, больше ничего не видя. Меня душил страх, душа моя дрожала, ибо спуск сюда напоминал мне страшную историю с отцом Мидой, который превратился в язык, в письмена. И когда мы остановились перед тяжелой деревянной, окованной железными полосами дверью, Философ заметил, что я трушу, и сказал:
— У тебя колени подгибаются. Но не бойся; мы спускаемся и одновременно поднимаемся. В знании. Часто человеку кажется, что он сходит вниз, а на самом деле он восходит наверх, поднимается. Так и мы сейчас.
Я хотел сказать ему о животном грозном, о деле рук моих, Лествичника и торговца из Дамаска; хотел предупредить его, но голос не шел из уст моих. Ибо как я мог признаться в деле злом, когда оно по чужой воле, по принуждению, а не от сердца моего сделано было? И есть ли прощение тому, кто зло творит только от мучительного страха, только потому, что за жизнь свою боится? Но: что стоит твоя жизнь, если нет в ней правды? Я стыдился признаться, исповедаться, ибо Философ показывал до сих пор безграничное ко мне доверие, и все, о чем я мог думать, было: «Боже, Вседержитель, Отец мой Небесный, спаси и сохрани Философа от твари грозной и ядовитой, как хранил Ты его у сарацин, когда их высокомудрые, но низкие душой и нищие духом грамматики дали ему выпить яду, а Ты, Господь, в утробе Философа превратил его в мед словесный, так что отрава не убила Философа, а утром следующего дня мед из уст его страшно поразил сарацин!»