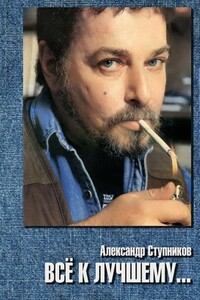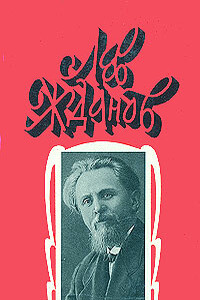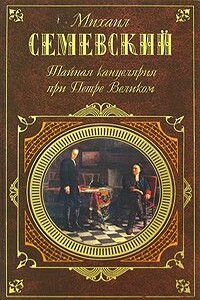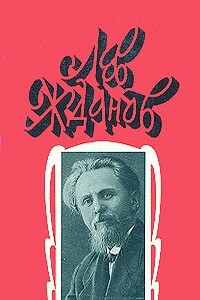Истоки | страница 30
— Gott sei dank, der blöde Krieg ist aus! [53]
Крипнеровская откровенность заставила Томана вспыхнуть, как клок соломы. Возбуждение не давало ему усидеть на месте. Но довольному Крипнеру сейчас более чем когда-либо лень было подниматься, и Томан один стал ходить по комнате. От избытка неудержимой радости его все тянуло к окну — хотелось удивляться вслух множеству людей, заполнивших казарменный двор. Тут его увидели в окне солдаты, знакомые по сегодняшнему переходу, и это стало еще одним клапаном для выхода радости. Они принялись окликать друг друга, не разбирая слов из-за общего шума и срывая свою досаду на несчастных русинах [54], которые расположились прямо под этим окном и вместо молитвы затянули хором какие-то духовные псалмы.
— Говорите по-русски! — сложив ладони рупором, кричал развеселившийся Томан стоящему под окном Бауэру.
Снизу таким же манером отвечали за Бауэра и другие, озорно показывая на русинов:
— У этих вместо войны богомолье! Сели в лужу, так пусть, мол, теперь за них господь бог воюет!
И ржали, — «ха, ха, ха!» — шумным весельем своим привлекая внимание других пленных.
К окну незаметно подошел поручик ополчения [55], один из тех двух, которые еще на марше запретили петь чешские песни.
— Господин лейтенант! — яростно прошипел он, не глядя на Томана. — Прошу без провокаций!
Томан с недоумением оглянулся, но ополченец только раздраженно рукой махнул и поспешил отойти.
Томан вспомнил свое первое с ним столкновение и, покраснев, отступил от окна. В растерянности постоял он около группы, собравшейся вокруг черноглазого и черноволосого кадета, который многословно и с самодовольством знатока, то по-немецки, то переходя на чешский язык, описывал ужасы жизни пленных в Сибири. Кадет утверждал, что офицеров, угнанных в Сибирь, заставляют надрываться в угольных шахтах. Многочисленные слушатели, поверив кадету, встревожились.
Томан заметил, что юный кадет своим хвастливым и громогласным равнодушием просто маскирует собственную неотвязную тревогу и боязнь, и вмешался.
— Да что вы! — убеждающе проговорил он. — Правда, офицеры тоже могут работать, но только добровольно, и за плату. Русские даже отпускают пленных на свободу под честное слово.
Кадет оглянулся и, увидев знакомую фигуру говорившего, произнес после небольшой паузы:
— Я офицер государя императора. Und treuer Sohn meines Vaterlandes [56].
Томан только провел пальцами по небритому подбородку и отошел. Потом он долго, одержимый неуемным беспокойством, бродил, не находя себе места, приближаясь лишь к тем кружкам, где слышалась чешская речь. Иногда он вступал в разговор, бросал несколько слов, но долго оставаться на одном месте не мог. Иной раз — если встречал приветливое лицо — он даже представлялся. А услышав от кого-то мимолетную в разговоре жалобу на головную боль, перерыл весь свой ранец в жаркой готовности помочь товарищу последней таблеткой аспирина. Устав наконец от всего этого и не утишив своего возбуждения, он, чтоб успокоиться, стал наблюдать, как играют в карты.