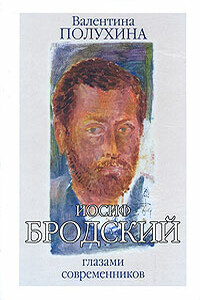Иосиф Бродский. Большая книга интервью | страница 49
Своим ответом на первый вопрос он остался недоволен и несколько раз предлагал заново начать запись. Но минут через пять он как будто перестал обращать внимание на включенный магнитофон — и даже на мое присутствие. Он увлекся, стал говорить все быстрее и оживленнее.
Голос у Бродского необычайно богатый, с отчетливым носовым призвуком. Надежда Мандельштам подробно описывает его во второй книге воспоминаний и заключает: «Это не человек, а духовой оркестр».
В середине беседы мы устроили перерыв. Бродский спросил, какое пиво я люблю, и вышел в ближайший магазин.
Когда он возвращался, я услышал, как во дворе его окликнул кто-то из соседей: «Как дела, Иосиф? Ты, по-моему, теряешь в весе!» Бродский отозвался: «Не знаю, может быть. Волосы теряю — это точно». И добавил: «И последний ум, кажется, тоже».
Когда мы все закончили, Бродский показался мне совсем другим, чем четыре часа назад. Усталое и озабоченное выражение пропало, он готов был говорить еще и еще. Но надо было возвращаться за письменный стол. «Я очень рад, что мы поработали», — сказал он мне на прощанье и проводил до дверей со своим обычным «Пока, целую!».
Я хотел бы начать с цитаты из второй книги воспоминаний Надежды Мандельштам. Она сказала о вас: «…он славный малый, который, боюсь, плохо кончит».
В каком-то смысле я и правда плохо кончил. В том смысле, что оказался вне русской литературы, был лишен возможности печататься в России. Думаю, однако, что Надежда Яковлевна имела в виду более конкретный плохой конец, скажем, физическую гибель. Мне же кажется, что для писателя запрет печататься на родном языке — не менее страшное наказание.
А у Ахматовой были на ваш счет какие-то предвидения!
Может быть, но менее мрачные, поэтому я их не помню. Всегда ведь лучше запоминаются дурные предсказания — они относятся непосредственно к твоей жизни, а не к работе и поневоле врезаются в память. С другой стороны, понимаешь, что если впереди тебя и ждет что-то хорошее, то это может произойти с помощью божественного нмешательства, а оно человеку неподконтрольно: тут уж что будет, то и будет. Мы не знаем наперед, какое добро нам будет ниспослано — оно от нас не зависит. Вот зло, хотя бы огчасти, мы в состоянии попытаться предотвратить.
Вы упомянули о божественном вмешательстве. В какой мере это для вас метафора?
В большой. Для меня это прежде всего вмешательство и инка, зависимость писателя от языка. Помните знаменитую строчку Одена о Иейтсе: «Mad Ireland hurt you into poetry…»? «Втравить», «ввергнуть» в поэзию, вообще в литературу, способен именно язык, твое собственное чувство языка. Не философские или поэтические взгляды, не просто зуд творчества, свойственный юности.