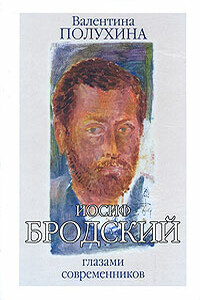Иосиф Бродский. Большая книга интервью | страница 44
Я думаю о строках: «Спросить / смысл ich bin, иначе безумен… Что ж, как поэт он выигрывает; как мужчина / проигрывает». Для меня эти строки имеют юмористический оттенок, но в них присутствует что-то очень глубокое.
Это были хорошие стихи. Это был 1965 год, деревня Норенская, давно, четырнадцать лет назад, годы прошли, удивительно.
Считаете ли вы, что изгнание повлияло на ваш интерес к наблюдению за языком немножко со стороны? А на темы, касающиеся отчуждения?
Если быть абсолютно честным, думаю, да. Однако я притворяюсь, и имею на то основания, что нет, потому что по сути любая страна — это просто продолжение пространства. Когда я приехал сюда, я велел себе не делать истории из этой перемены, вести себя так, как будто ничего не произошло. Так я себя и вел. Думаю, что и продолжаю. Но в первые два-три года я чувствовал, что скорее веду себя, чем живу. Ну, больше веду себя так, как будто ничего не произошло. Теперь лицо и маска, я думаю, склеились. Просто я не чувствую этого, не могу провести различие.
В смысле моего интереса и того, как повлияла на меня на перемена, я не знаю, что можно сказать с уверенностью. Потому что определенные вещи действительно про- и дошли. Например, я стал меньше тосковать по определенным культурным феноменам, по идее авангарда в искусстве. Теперь я думаю, что это дерьмо на девяносто процентов, если не больше. Если бы я остался в России, я продолжал бы считать, что театр абсурда — великая вещь. И все же я действительно не знаю. Я думаю, человека заставляет изменить отношение или восприятие не столько его реальный опыт, реальный вкус того или иного явления, а старение само по себе. Становишься менее взволнованным. Не становишься умнее, но становишься, так сказать, более земным. В каком-то смысле это вредно, потому ко популярный вариант поэзии требует от поэта какого-то приподнятого состояния. И должен сказать, что в России и вообще был немножко более, как бы выразиться… неземным. Я никогда не был неземным, но у меня были более неземные заботы. Когда я писал стихи, я чаще впадал в поиск невидимого на ощупь. Но это часто приводило меня к какой-то мистической бессвязности, которую я и тогда презирал. Если что-то подобное происходит сегодня, то более точно, а потому менее часто. Опять же, я не стал бы приписывать это перемене обстановки. Это результат старения, у которого есть благородное название «зрелость», хотя очень часто я испытываю такую неуверенность, как будто мне девятнадцать или восемнадцать. Поэзия — лучшая школа неуверенности. Что касается моего отношения к языку, к моему языку, то пока я не думаю, что произошло что-то действительно плохое. Наоборот. Дома языком пользуешься второпях. Вроде бы доверяешься… ну, на самом деле не доверяешься, но писание — это что-то автоматическое. Например, есть масса пассажей в тех стихах — хотя я не часто в них заглядываю, потому что не выношу этого, — где я вижу, что язык используется как-то неряшливо. Тогда я был внимательнее, воздержаннее.