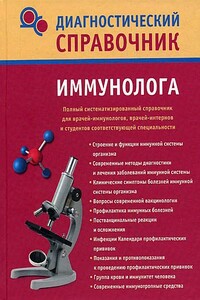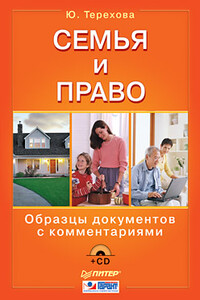111 симфоний | страница 54
Премьера Первой симфонии, состоявшаяся в Вене 2 апреля 1800 года, стала событием не только в жизни композитора, но и в музыкальной жизни столицы Австрии. Это был первый большой авторский концерт Бетховена, так называемая «академия», свидетельствовавший о популярности тридцатилетнего автора: одно его имя на афише обладало способностью собрать полный зал. На этот раз — зал Национального придворного театра. Бетховен выступал с оркестром итальянской оперы, плохо приспособленным для исполнения симфонии, в особенности — такой необычной для своего времени. Поражал состав оркестра: по мнению рецензента лейпцигской газеты, «духовые инструменты применены слишком обильно, так что получилась скорее духовая музыка, нежели звучание полного симфонического оркестра». Бетховен ввел в партитуру два кларнета, что тогда еще не получило широкого распространения: Моцарт использовал их редко; Гайдн впервые сделал кларнеты равноправными участниками оркестра лишь в последних Лондонских симфониях. Бетховен же не только начал с такого состава, которым закончил Гайдн, но еще и построил ряд эпизодов на контрастах духовой и струнной групп.
Симфония посвящена барону Г. ван Свитену — известному венскому меценату, содержавшему большую капеллу, пропагандисту творчества Генделя и Баха, автору либретто ораторий Гайдна, а также 12 симфоний, по словам Гайдна, «таких же тупых, как он сам».
Начало симфонии поразило современников. Вместо ясного, определенного устойчивого аккорда, как было принято, Бетховен открывает медленное вступление таким созвучием, которое не дает возможности слуху определить тональность произведения. Все вступление, построенное на постоянных контрастах звучности, держит слушателя в напряжении, разрешение которого наступает только с вступлением главной темы сонатного аллегро. В ней звучит юношеская энергия, порыв нерастраченных сил. Упорно стремится она вверх, постепенно завоевывая высокий регистр и утверждаясь в звонком звучании всего оркестра. Грациозный облик побочной темы (переклички гобоя и флейты, а затем скрипок) заставляет вспомнить Моцарта. Но и эта более лирическая тема дышит той же радостью жизни, что и первая. На миг набегает облачко грусти, побочная возникает в приглушенном, несколько таинственном звучании низких струнных. Им отвечает задумчивый мотив гобоя. И вновь весь оркестр утверждает энергичную поступь главной темы. Ее мотивы пронизывают и разработку, которая строится на резких сменах звучностей, внезапных акцентах, перекличках инструментов. В репризе господствует главная тема. Особенно ее главенство подчеркивается в коде, которой Бетховен, в отличие от своих предшественников, придает очень важное значение.