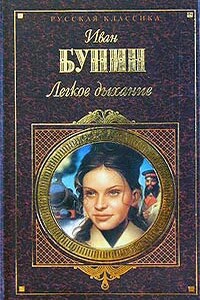Том 11. По Руси. Рассказы 1912-1917 | страница 84
Мычали волы, отвечая зову колокола глухим эхом.
Ветер стих; над станицей замедленно двигались красные облака, и вершины гор тоже рдяно раскраснелись. Казалось — они тают и текут золотисто-огненными потоками на степь, где, точно из камня высеченный, стоит на одной ноге аист и слушает тихий шорох уставших за день трав.
На дворе войсковой хаты у нас отобрали паспорта, двое оказались беспаспортными, их отвели в угол двора и спрятали там в тёмный хлевушок. Всё делалось тихо и спокойно, как обычное, надоевшее. Конёв уныло посматривал в темнеющее небо и ворчал:
— Удивительно даже…
— Что?
— Пачпорта, например. Хорошего, смирного человека можно бы и без пачпорта по земле пускать… Ежели я — безвредный…
— Ты — вредный, — сердито и уверенно сказала рязанка.
— Почему так?
— Я знаю почему…
Конёв усмехнулся и замолчал, закрыв глаза.
Почти до конца всенощной мы валялись по двору, как бараны на бойне, потом меня, Конёва, обеих женщин и моршанского парня отвели на окраину станицы в пустую хату, с проломленной стеною, с выбитыми стёклами в окнах.
— На улицу не выходить — заарестуем, — сказал казак, провожавший нас.
— Хлебушка бы, небольшой кусок, — заикнулся Конёв.
Казак спокойно спросил:
— Работал?
— Мало ли!
— А на меня?
— Не довелось…
— Когда доведётся, то я тебе дам хлеба…
И, коротенький, толстый, — выкатился со двора, как бочка.
— Ка-ак он меня, а? — изумлённо возводя брови на середину лба, бормотал Конёв. — Это, просто сказать, жох-народ… ну-ну!
Женщины ушли в самый тёмный угол хаты и точно сразу заснули там; парень, сопя, ощупывал стены, пол, исчез, вернулся с охапкой соломы в руках, постелил её на глинобитный пол и молча разлёгся, закинув руки под избитую голову.
— Глядите, какое соображение выказал пензяк-то! — воскликнул Конёв завистливо. — Бабы, ой! Тут где-то солома есть…
Из угла сердито ответили:
— Поди да принеси…
— Вам?
— Нам.
— Надо принести.
Сидя на подоконнике, он немножко поговорил о бедных людях, которым хотелось пойти в церковь помолиться богу, а их загнали в хлев.
— Да. А ты баешь, — народ — одна душа! Нет, браток, у нас в России люди праведниками считать себя очень стесняются…
И вдруг, перекинув ноги на улицу, он бесшумно исчез.
Парень уснул беспокойным сном, возился, раскидывая по полу толстые ноги и руки, стонал и всхрапывал, шуршала солома. В темноте шушукались бабы, шелестел сухой камыш на крыше хаты — ветер всё ещё вздыхал. Щёлкал по стене какой-то прут, и всё было как во сне.
За окном густочёрная ночь, без звёзд, многими голосами шептала о чём-то жалобном и грустном; с каждой минутой звуки становились всё слабее, а когда сторожевой колокол ударил десять раз и гул меди растаял — стало ещё тише, точно многое живое испугалось звона ночного и спряталось — ушло в невидимую землю, в невидимое небо.