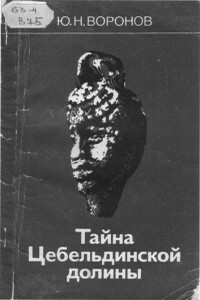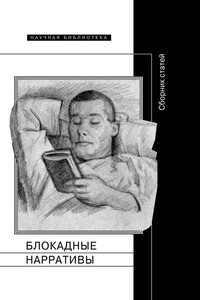Иосиф Бродский: Американский дневник | страница 54
Отсюда примитивизм ("хор согласных и гласных молекул", "великий ликбез") наполняющего Вселенную воздуха. Отсюда же — его обособленность от всего живого: "Дальше — только кислород: / в тело вхожая кутья / через ноздри, через рот. / Вкус и цвет — небытия" ("В горах", 1984).
Чем больше естественных человеческих чувств, тем белее лист бумаги, потому что жизнь сосредотачивается на живом, и лишь утрата переносит нас в мир воспоминаний: "Чем белее, тем бесчеловечней". Сравните: "Ты — ветер, дружок. Я — твой / лес. Я трясу листвой, / изъеденною весьма / гусеницею письма. / Чем яростнее Борей, / тем листья эти белей" ("Ты — ветер, дружок", 1983). К тому же белый цвет сам по себе воспринимается поэтом неоднозначно: с одной стороны, это цвет застывших мраморных статуй (тел без души), с другой, — цвет бестелесных ангелов (душ без тела); цвет снега как символа ледяного забвения и неотъемлемый атрибут Севера — "честной вещи", "куда глядят все окна"; это пустой лист бумаги как символ и творчества, и разбитой жизни одновременно. Поэтому так пронзительно звучат следующие строки стихотворения:
Муза, можно домой? Восвояси! В тот край, где бездумный Борей попирает беспечно трофеи уст. В грамматику без препинания. В рай алфавита, трахеи.
В твой безликий ликбез.
Когда читаешь "Литовский ноктюрн" в первый раз, эта фраза "Муза, можно домой?" неожиданно врезается в память своей абсолютной разговорной естественностью, неуместной в контексте серьезных философских размышлений автора. Она звучит так по-детски беспомощно и безнадежно, как воспоминание из далекого прошлого, когда мы, дети, давали волю чувствам, не задумываясь о логике. "Муза, можно домой? Восвояси!" — туда, где холодный северный ветер Борей будоражит чувства и "попирает беспечно трофеи уст", туда, где кипит жизнь и остаются нетронутыми белые страницы, в "грамматику" чувств, а не языка. Томас Венцлова трактует этот отрывок следующим образом:
"Значение дома и границы трансформируется в последний раз: дом для поэта — это поэзия"[71]. В переводе на английский язык обращения Бродского к Музе Венцлова облекает субъект в форму множественного числа ("Muse, can we go home?" — "Муза, можно нам домой?" (выделено — О.Г.)), объединяя в нем и автора, и самого себя — его собеседника, тем самым сообщая о своей причастности к этому выводу и пресекая любую возможность истолкования обращения поэта в ином ракурсе. В английском варианте статьи Венцлова на принципиальное значение тезиса "Дом для поэта — это поэзия" указывает также то, что он дается в последнем абзаце и выделяется курсивом.