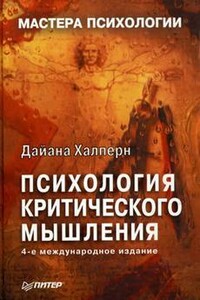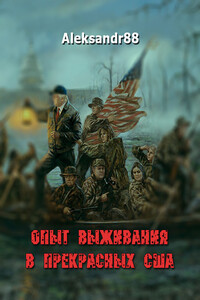О двух типах художников | страница 23
Отношение художника к своей модели — эпизод из "Красной лилии" — это только наглядное и конкретное выражение общей перемены в отношении искусства к жизни. В эстетике Флобера и Бодлера эта проблема занимает центральное место и определяет собой эстетическую концепцию, в основе которой лежат философия отчаяния, ненависть и презрение к действительности развитого буржуазного общества. Генрик Ибсен прожил долгую жизнь, наполненную борьбой против низости этого общества; отчаявшись, он направил критическую мысль на профессию писателя и тоже резюмировал самообвинение в проблеме отношения художника к модели. Тема, которую мы встречаем у Франса только как эпизод (хотя и характерный), является у Ибсена центром трагедии: если художник хочет остаться честным и верным себе, если он хочет быть последовательным, он должен умертвить все в себе и вокруг себя. Мстящая за себя человеческая натура пробуждается, но слишком поздно, и это трагически обусловлено, так как быть человечным значит для художника отказаться от искусства, от выражения своего "духа в искусстве". "L'homme n'est пеп, l'oeuvre est tout" ("человек — ничто, искусство — все"), сказал Флобер.
Драматический "эпилог" жизни Ибсена резюмирует сущность конфликта, назревавшего в течение XIX века и становящегося все более неразрешимым. Дидро застал его начало и написал о нем в диалоге "Племянник Рамо". Рамо рассказывает Дидро (персонажу диалога) историю об одном вероотступнике, который "артистически" обобрал своего единоверца-еврея и предал его в руки инквизиции. Рамо восхищается его "искусством" и строит свой рассказ об этом факте так, что в нем не остается ничего, кроме чистого, отвлеченного соотношения между обманщиком и обманутым, между глупой доверчивостью и превосходной энергией ума: в сущности, Рамо следует при этом правилу позднейшего "искусства для искусства" (напомним, например, "Кисть, перо и отраву" Уайльда). Дидро ему отвечает: "Я не знаю, чем следует сильнее возмущаться — злодейством ренегата или тоном, которым вы все это рассказываете". Но выражает ли эта реплика достаточно полню мысль самого Дидро (не персонажа, а автора диалога и создателя образа "племянника Рамо")? Гегель имел право видеть в "разорванном сознании" Рамо подлинную диалектику действительности, в противоположность "невежественному бессмыслию", которое представлено в диалоге дидактически упрощенным воплощением "чистой совести" — фигурой Дидро.