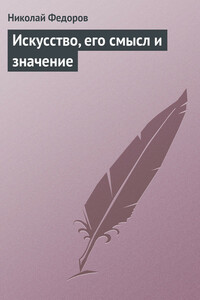О диалектике абстрактного и конкретного в научно-теоретическом познании | страница 7
Весь вопрос, следовательно, заключается вовсе не в том, чтобы отвлекать общее и закреплять его в виде термина. Для этого не требуется ничего, кроме простой внимательности и умения говорить. Задача мышления состоит в другом. Деятельность мышления должна дать в качестве своего продукта такие абстракции, которые в их взаимосвязи составляют понимание внутренней сущности предмета.
Какими же методологическими требованиями надлежит руководствоваться при попытке выработать всеобщее определение предмета, всеобщее понятие, а не просто груду аналитически вычлененных абстракций?
Разумеется, что вопрос этот не может быть решен на почве чистой логики. Только в тесном союзе с активной практической деятельностью теоретическое мышление обретает ту точку зрения, с которой становятся различимыми объективно существенные черты исследуемой действительности. Но было бы неверно думать, что эта точка зрения может быть достигнута в форме сочетания требований старой, школьной логики с требованиями практики. Сама логика при этом неизбежно становится совсем иной и по существу совпадает с диалектикой и теорией познания. И задача логики состоит в том, чтобы выявить, как связь с общественно-исторической деятельностью человека преломляется в специфической природе логического процесса и к чему она обязывает мышление.
Противоположность диалектической логики и логики старой, базирующейся на локковских представлениях о природе понятия, прекрасно сформулирована Лениным: мышление, руководствующееся сознательной [46] диалектико-материалистической логикой, должно при выработке понятия отыскивать и отвлекать «не только абстрактно всеобщее, но всеобщее такое, которое воплощает в себе богатство особенного, индивидуального, отдельного (все богатство особого и отдельного!)»[1].
Что это значит? В чем реальный гносеологический, логический смысл этого требования и как его реализовать?
Ответить на этот вопрос — это значит охарактеризовать специфическую природу понятия в его отличии от отвлеченного общего представления, выражаемого в слове и термине. Это значит показать, что понятие — не любая абстракция, не просто отвлеченное общее, а конкретная абстракция, единство противоположностей абстрактного и конкретного.
С точки зрения чисто формального подхода к логике выражение «конкретная абстракция» неизбежно покажется парадоксом, чем-то вроде «круглого квадрата», а требование такого «всеобщего», которое содержало бы в себе все богатство особого и отдельного, попросту неисполнимым. И, тем не менее, в этом резюмируется вся суть диалектико-материалистического понимания проблемы понятия как высшей формы отражения предмета в сознании.