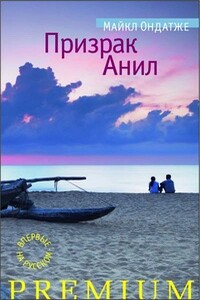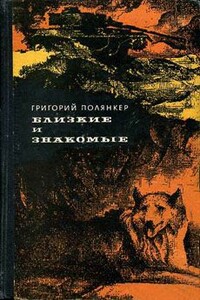Дивисадеро | страница 40
Наверное, есть что о нем порассказать.
Да уж. Раз, когда полиция шерстила табор, он переоделся женщиной. Целый месяц ходил в женском наряде, пока буча не улеглась. В юности он отмотал срок и решил, что больше никогда не сядет.
Его можно понять.
Дело не в том: он боялся, что к матери начнут подъезжать другие мужики. Думаю, она была ему верна, но тут — поди знай…
Ария, повторила Анна, будто пробуя слово на вкус.
После дезинфекции он смекнул, что до прихода тюремщика еще минут пятнадцать, и, подсев к девушке, в лоб спросил, не желает ли она с ним встретиться. Девица разглядывала карты. То так их разложит, то этак. Обрывок зеленой ленты перехватывал ее смоляные волосы. Не говоря ни слова, она придвинула ему колоду. Он снял и вытянул карту. В картах Таро он ничего не понимал и лишь смотрел, как девушка выкладывает их на столе. Потом она велела взять еще одну карту. Он глянул на часы над ее красивой головкой:
— Боюсь показаться невежей, но мне пора.
Девушка молча перекладывала карты, словно что-то в них читая, и лишь слегка кивнула, когда он выскользнул за дверь.
Ей было незачем смотреть на его лицо и странно темные руки, ибо карты неизмеримо достовернее сказали о будущей встрече. Через окно он заглянул в комнату: склонившись к столу, девушка рассматривала карты.
На другой вечер он пришел в ее фургон. Она смерила его взглядом, словно удостоверяясь, что получила желаемое. В нем угадывался будущий ревнивец; наверное, война заставила его искать безусловной надежности.
Предавая жену, от Арии он требовал верности. Как давеча в каталажке, она промолчала, не желая зарекаться от судьбы и случая. Ничего нельзя обещать навеки, да и сам он не образчик нравственности, чтобы требовать обеты. За все совместные годы она ни разу не успокоила его заверением в своей верности, чего так хотелось человеку, внезапно осознавшему, что собственность священна.
Рафаэль поведал не все. В семь лет он еще спал рядом с матерью, которую воспринимал как центр вселенной, обнимая ее с тем несомненным полноправием, с каким мальчик обнимает своего пса. В двадцать он голышом купался с ней в реке. Для него нагота была естественна, и он ничуть не стеснялся Анны, когда голый курил у окна, сосредоточенный лишь на огоньке сигареты и воркотне голубей, нашедших приют за обветшалой стеной. Если б Анна спросила, он рассказал бы (а может, и нет) о том, как мать, в ком всегда жила смесь основательности и неприкрытого желания, оберегала тайну своей верности, что подобна крепостному рву, который то ли перейдешь, то ли нет. Бывало, мать что-то ему шепнет и поцелуем в ухо запечатает секрет, чтоб никому не разболтал.