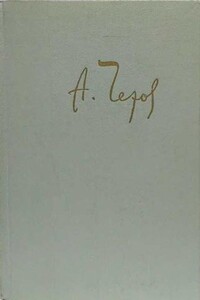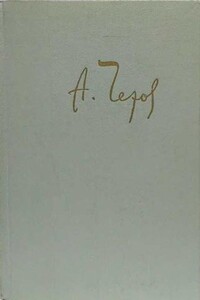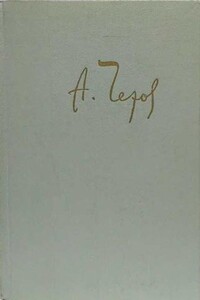Том 13. Детство. В людях. Мои университеты | страница 71
Иногда дядя Пётр гуляет без успеха, — охотник, видимо, не признаёт его дичью, достойной выстрела, но порою двуствольное ружьё бухает раз за разом:
— Бух-бух…
Не ускоряя шага, дядя Пётр подходит к нам и, очень довольный, говорит:
— В полу хлестнул!
Однажды дробь попала ему в плечо и шею; бабушка, выковыривая её иголкой, журила дядю Петра:
— Что ты ему, дикому, потакаешь? А ну он глаз тебе выбьет!
— Не-е, никак, Акулина Иванна, — пренебрежительно тянул Пётр. — Он стрелок никакой…
— Да ты-то пОшто балуешь его?
— Я разве балую? Мне охота подразнить барина…
И, разглядывая на ладони извлечённые дробины, говорил:
— Никакой стрелец! А вот у барыни-графини, Татьян Лексевны, состоял временно в супружеской должности, — она мужьёв меняла вроде бы лакеев, — так состоял при ней, говорю, Мамонт Ильич, военный человек, ну — он правильно стрелял! Он, бабушка, пулями, не иначе! Поставит Игнашку-дурачка за далеко, шагов, может, за сорок, а на пояс дураку бутылку привяжет так, что она у него промеж ног висит, а Игнашка ноги раскорячит, смеётся по глупости. Мамонт Ильич наведёт пистолет — бац! Хряснула бутылка. Только, единова, овод, что ли, Игнашку укусил — дёрнулся он, а пуля ему в коленку, в самую в чашечку! Позвали лекаря, сейчас он ногу отчекрыжил — готово! Схоронили её…
— А дурачок?
— Он — ничего. Дураку ни ног, ни рук не надо, он и глупостью своей сытно кормится. Глупого всякий любит, глупость безобидна. Сказано: и дьяк и повытчик, коли дурак — так не обидчик…
Бабушку эдакие рассказы не удивляли, она сама знала их десятки, а мне становилось немножко жутко, я спрашивал Петра:
— А до смерти убить может барин?
— Отчего не мочь? Мо-ожет. Они даже друг друга бьют. К Татьян Лексевне приехал улан, повздорили они с Мамонтом, сейчас пистолеты в руки, пошли в парк, там, около пруда, на дорожке, улан этот бац Мамонту — в самую печень! Мамонта — на погост, улана — на Кавказ, — вот те и вся недолга! Это они — сами себя! А про мужиков и прочих — тут уж нечего говорить! Теперь им — поди — особо не жаль людей-то, не ихние стали люди, ну, а прежде всё-таки жалели — своё добро!
— Ну, и тогда не больно жалели, — говорит бабушка.
Дядя Пётр соглашается:
— И это верно: свое добро, да — дешёвое…
Ко мне он относился ласково, говорил со мною добродушнее, чем с большими, и не прятал глаз, но что-то не нравилось мне в нём. Угощая всех любимым вареньем, намазывал мой ломоть хлеба гуще, привозил мне из города солодовые пряники, маковую сбойну и беседовал со мною всегда серьёзно, тихонько.