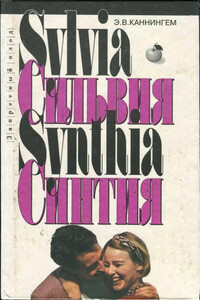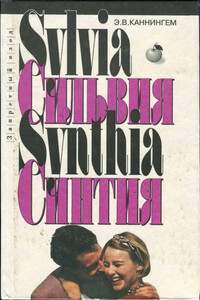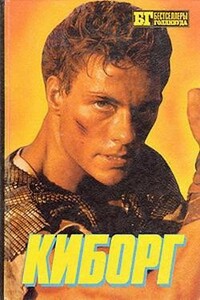Хелен | страница 40
Я должно быть, переменился в лице, потому что Хелен спросила:
— У вас все в порядке, Блейк?
— Наверно.
В её голосе послышались участливые, даже заботливые нотки.
— Не волнуйтесь из-за меня, Блейк.
— Легко сказать, — фыркнул я. — У меня нет ни защиты, ни даже мало-мальски надежной точки опоры — ровным счетом ничего, что я мог бы противопоставить обвинению, а она говорит, чтобы я не волновался. Неужели тебе не страшно?
— Нет.
— Тебе безразлично, что тебя ждет смерть?
— Ну… пожалуй, да.
— Чушь собачья! Кто-то вбил тебе в голову, что тебя спасут от петли. Так вот, заверяю тебя…
Мои слова умерли у меня на губах. Я уселся за стол, а Хелен села напротив, внимательно глядя на меня.
— Что вы хотели сказать, Блейк?
— Тебе не отвертеться, — беспомощно выдавил я. — Если ты только не одумаешься и не начнешь говорить. Дай мне хоть что-нибудь. Любую зацепку. Господи, как мне не хватает хоть какой-то зацепки.
— Блейк, мне это безразлично.
— Но мне не безразлично! — заорал я. — Неужели тебе это не понятно?
Надзирательница просунула голову в дверь.
— Что-нибудь случилось, мистер Эддиман? Вы так кричали.
— Нет, нет. У нас все в порядке.
— Я буду снаружи, мистер Эддиман.
— Я знаю, спасибо. Если понадобится, я вас позову.
Хелен встала.
— Поговорим в другой раз, Блейк. Когда вы не будете так нервничать.
Я молча поднялся, проводив её до двери, но в последнюю секунду спохватился.
— Хелен?
— Что, Блейк? — спокойно спросила она, поворачиваясь ко мне лицом.
— Бергер сказал, что ты говорила с ним по-немецки… и очень хорошо.
Она вскинула брови.
— Какой Бергер?
— Новоорлеанский головорез из «Пустынного рая».
— Ах, да. Разумеется. Да, я что-то ему сказала.
— Откуда ты знаешь немецкий, Хелен?
— От дедушки. Он ведь у меня был немец.
Она подошла к надзирательнице, и они зашагали прочь по коридору.
Мэри Пиласки, мать Хелен, выглядела усталой, растрепанной и неряшливой. У неё были жиденькие седые волосы и унылые голубые глаза, утопавшие в морщинках. Кожа на шее висела складками, а ноги были сплошь испещрены варикозными венами. Я бы ей дал сколько угодно лет — от пятидесяти до шестидесяти пяти. Она была из тех женщин, что к пожилому возрасту бесследно утрачивают все, чем гордились в юности. В Чикаго она служила домработницей и хозяева отпустили её на два дня. Самолетом она никогда прежде не летала.
Первым делом, едва я её встретил, Мэри Пиласки пожаловалась:
— Ноги у меня, знаете ли, болят. Да и в самолете я едва не умерла от страха.