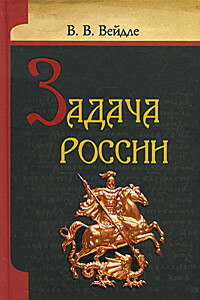Умирание искусства | страница 69
В современной Европе (и Америке) тяга к земле есть прежде всего порождение усталости от все менее отвечающего истинным человеческим потребностям городского быта. Тягу эту оправдывают промышленными затруднениями разных стран, необходимостью бороться с безработицей путем возвращения к сельскому хозяйству и многими другими специальными и практическими соображениями, но существует она независимо от них. Нередко исходя из ее наличности пытаются обосновать или укрепить целую идеологию в области политической и социальной, но всегда оказывается существенней, чем все эти теоретические «надстройки», сама волна, вынесшая их на своем гребне, которую они не в силах до конца осознать и выразить в себе. Всего ощутимее она — как всякое предвестие будущего — в литературе и в искусстве; да это и не удивительно, так как условия жизни, созданные городской цивилизацией, затруднительны прежде всего для литературного и художественного творчества, которое первое поэтому силится от них освободиться. Движение, совпадающее с самыми истоками романтизма и никогда не умиравшее за весь минувший век, углубляется на наших глазах, обнаруживает ранее затемненную свою сущность. Художник ищет в деревне не подвига, не исполнения мечты, даже не материала для своих творений, но другого, более необходимого еще, чего он так часто не находит в городе; он ищет самого себя.
В XIX веке деревенский роман, деревенская новелла оставались чаще всего созданиями городской литературы, ищущей праздничного отдыха и «новых впечатлений», были идиллией, или мелодрамой, или попытками прозаического эпоса, пока не сделались очередной добычей реалистических протоколов и инвентарей. Во французской, в английской литературе деревня описывалась чаще всего людьми внутренне ей чуждыми, искавшими в ней привлекательной или отталкивающей экзотики, – счастливого дикаря Руссо или троглодита позднейших натуралистов. Даже Гарди, всю жизнь проживший в деревне, в известном смысле не составляет исключения: она для него — опытное поле, где более свободно могут развиваться страсти его глубоко городских, глубоко искалеченных городом людей. Иначе обстояло дело в славянских, в скандинавских литературах, отчасти в немецкой, но и тут не произошло еще к тому времени окончательного раскола между жизнью деревенской и городской, или все же «крестьянская доля» интересовала литературу с точки зрения описательской скорее, чем писательской. Перелом для всей Европы совпал с ущербом натуралистической эстетики, а вызван был ускоренным развитием технической цивилизации и последствиями ее, особенно резко обнаруженными войною. Теперь уже не охота за материалом влечет писателя к деревенской жизни, а жажда человеческого содержания и живого смысла, которые иначе ускользают от него, иначе говоря, сама его творческая потребность, которую все меньше удовлетворяет механизированная городская жизнь. То, что он находит в деревенской или даже просто провинциальной обстановке — цельность характеров и страстей, ощущение иррациональных сил и связей, — он пытается противопоставить бесконечно разветвленному психологизму современной литературы, той крайней дифференцированности и осознанности душевной жизни, что грозит атомистически распылить всякую форму, в какой пытаются дать ей выражение. Ничего общего с «попюлизмом» и другими политического происхождения поветриями нельзя найти в этом бегстве к «отсталому», на самом же деле к забытому и вечному, к первобытной жизненной стихии.