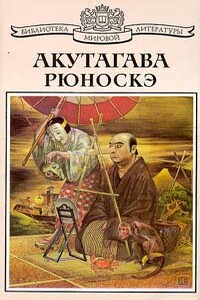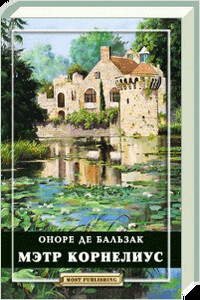За оградой | страница 14
Встретившись с Маринкой, он тотчас спросил ее об этом. Маринка молча обнажила руку повыше локтя:
— На, смотри…
Рука, опухшая и расцарапанная, была густо усеяна шрамами и кровоподтеками.
— Что это, Маринка?
— Щипки…
У Ноя задрожал подбородок. Он сделал движение, чтобы взять руку Маринки и погладить ее, но забор мешал.
— Болит рука, Мариночка, очень болит?
Маринка отрицательно покачала головой.
— Нет, когда щиплют — болит, ой, как болит; теперь — нет.
— Но за что она мучает тебя? — закричал Ной и ударил кулаком по забору. Маленький Скурипин за забором вздрогнул и начал прыгать и лаять.
— Мариночка, за что она мучает тебя?
— Я — приемыш, Ной: ни отца, ни матери, — ответила Маринка и тихо всхлипнула.
«Приемыш? Что такое приемыш? И почему ее зовут байстрючкой? Что значит: ни отца, ни матери? Умерли? Но она же говорит, что не знает, где они».
Однажды он собрался с духом и спросил свою мать:
— Мама, что значит приемыш?
В это время Ципа-Лия была занята поджариванием блинчиков и слушала сына очень рассеянно.
— А, приемыш? — сказала Ципа-Лия, глядя в печку, вся поглощенная шипевшими в масле блинами, — …приемыш, говоришь ты, приемыш… — это, это… ой, горе мне, блины сейчас сгорят!
И Ципа-Лия выхватила из печи сковороду с блинами.
— Мама, мама, — не отставал Ной, — что такое приемыш? А, мама?
— А ну, прочь отсюда, бездельник? Ханино-Липа!
Так Ной и не узнал, что значит приемыш. Он понял смысл этого слова много позднее, но тогда ему уже случалось бывать рядом с Маринкой, и ограда не служила им больше помехой…
Позади двора Ханино-Липы и сада Скурипинчихи, за еврейским околотком, притаился особый тихий мирок — большая заброшенная пустошь. Эта пустошь со всех сторон окружен огородами и баштанами и отделен от них изгородью. Очутиться на ней можно, только пройдя по узкой тропинке меж плетней и пробравшись через пролом в изгороди. Зимою пустошь пребывает в безраздельном владении глубокого, чистого снега, сугробы которого доходят до половины забора, а летом здесь привольно и буйно разрастается дикая поросль, лопухи и клевер, да изредка забредет сюда отбившийся от стада теленок или заплутавший поросенок. Дальний крик петуха и голоса людей доносятся в это сонное царство словно из иного мира. Крестьяне приходят сюда лишь опалить свинью или содрать шкуру с павшей скотины. Местный тряпичник, молчаливый, немного придурковатый старик, слывущий колдуном, целыми часами простаивает здесь один-одинешенек со своей палкой и мешком, роясь в мусоре и шевеля потрескавшимися губами. В густой траве, в скрытых под зарослями лопухов ямах, вперемешку с высохшими черепами, белеющими костями и бычьими рогами, лежат во мраке угрюмые коряги с растопыренными во все стороны корнями. Кое-где выступают из травы, подобно древним надгробьям, круглые широкие пни, что остались от росших здесь прежде деревьев. Когда-то, сказывают, на этом месте шумела густая тенистая роща; теперь здесь царит тишина, кладбищенская тишина. От былого изобилия сохранились два дерева: могучий вековой дуб, который стоит посреди пустоши и гордо возносит свою крону надо всей слободой, и низенькая полузасохшая груша, притулившаяся в сторонке и тихо погибающая под палящим солнцем. Еще есть там старый клен, густой и раскидистый, но этот ветеран растет за пустырем и, приклоняя к изгороди пышную листву, словно смотрит и смотрит издали на своего величественного товарища — на дуб.