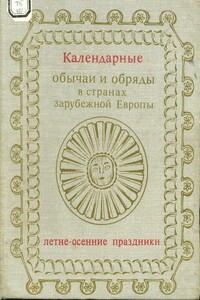В мире эстетики | страница 131
Таковы два компонента системы Лариных. Мораль поэтического произведения Пушкина состоит, по мнению нашего автора, в том, что нельзя ни преувеличивать, ни приуменьшать удельный вес «художественного потенциала личности в общей ее структуре». Пушкин «не приемлет ни атрофии, ни гипертрофии художественных интересов личности» и возвышается над этими крайностями, типичными для современного ему общества, как М. Каган возвышается над социологизмом и гносеологизмом в эстетике. По словам ученого, творчество нашего великого поэта, как и творчество многих других художников до и после него, «подтверждало своими человековедческими исследованиями правильность такой постановки вопроса»>32.
Да, с такой наукой не соскучишься! Вспоминая великий закон изоморфизма, мы можем перенести глубокие выводы автора на другую модель, например на него самого. В плане эстетики он не страдает гипертрофией художественного потенциала, проще говоря, не овладел пятью моментами вкуса, еще проще говоря — равнодушен к искусству, да, кажется, и не очень
углубляется в факты, к нему относящиеся. Ему важно построить равнобедренный треугольник, где в одном углу сидит Татьяна, в другом Ольга, а мы с автором этого анализа наслаждаемся своим превосходством над их односторонними крайностями, удовлетворенные применением теории информации к семейству Лариных.
Конечно, Татьяна любила почитать, хотя это не единственная «атрибутивная характеристика» (по научному выражению М. Кагана) ее личности. Однако наш homo systematicus забыл, что любовь к чтению нельзя считать независимой переменной, ибо значение ее в каждой данной точке зависит от содержания того, что читает данный «субъектотип». Сначала Татьяна действительно читала сентиментальные романы Ричардсона и Руссо. Но после отъезда Онегина из деревни, проникнув в его избранную библиотеку, она прочла главные сочинения Байрона, Да с ним еще два-три романа, В которых отразился век, И современный человек Изображен довольно верно
Это чтение многое объяснило Татьяне в «структуре души» Онегина, а его «ценностная ориентация» вовсе не разочаровала ее своей практической «установкой», чуждой художественному потенциалу. Мы знаем, что это чтение открыло Татьяне мир иной, ничуть не мелкий. Ей показалось даже, что она начинает понимать своего кумира, его несчастное сознание. Откуда взял ученый, что Татьяна разочаровалась в Онегине? Этого нет даже в либретто оперы Чайковского. Удивительно еще, как наш автор не потребовал, чтобы Онегин женился на Ольге, поскольку оба они по сути дела представляют одно и то же «практически-деловое» начало. Нет, анализ произведения Пушкина не подтверждает правильность избранного М. Каганом «направления исследования».