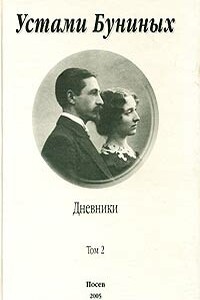Прощай ХХ век (Память сердца) | страница 194
Заголовок повести Татьяны Андреевой «Прощай, XX век» не вызвал у меня большого энтузиазма. Кто же не знает, что XX век кончился?
Но с первых же строчек осторожность сменилась удивлением. Очень грамотный, интеллигентный стиль — я бы сказала, «серебряного века». Так писали дворяне, русское зарубежье. Вот, например:
«О чудо, память! Это — осуществленная мечта человека о путешествии во времени.
Я хочу, чтобы мой читатель ощутил, что жизнь прекрасна всегда и что это одновременно дар Божий и испытание. Стоит только попробовать вспомнить хоть что-нибудь из самого далекого прошлого, и воспоминания потянутся одно за другим, и вспомнятся события, впечатления, краски и запахи, которые, казалось бы, пролетели мимо и канули в забвение…»
Или вот такое:
«Мне всегда везло на друзей. Одни появлялись и вставали рядом со мной, переплетая свою жизнь с моей, становясь частью меня, иногда становясь ближе родственников. Другие проходили рядом, по касательной линии, как космические тела, выходящие на мою орбиту, но потом, притянутые более крупными планетами, отрывались и удалялись от меня в иные миры. Дружба — это любовь без страсти, чистое пламя, в котором не сгорают и не коптят, а дарят друг другу свет и тепло».
И это в наше-то, как говорится, «мультимедийное» время!
Не случайно, наверное, считается, что в провинции, в тишине, люди умеют «остановиться, оглянуться» и, как отражение в чистом пруду, узреть главное.
Повесть Андреевой читается легко. События набегают ненавязчиво, как волна на речной песок, ими можно любоваться:
«Я где-то слышала, что человек начинает помнить себя с трех лет. Мое первое воспоминание приобрело форму зрительного образа. Там, где я была, мерцал неяркий темно-красный свет. Через много лет я рассказала об этом маме, и она вспомнила, что… в Польше, где я родилась после войны и росла первые полтора-два года, в доме, где мы жили, на окнах висели вишневые шторы из тяжелого шелкового бархата. Их задергивали днем, чтобы свет не мешал мне спать».
Очень наблюдательно, «вкусно» описывает автор самые прозаические вещи, десятилетиями сохраняя свежесть восприятия:
«…Молоко на рынке было цельное, неснятое (значит, с него не были сняты перед продажей сливки) и по этой причине необыкновенно густое, жирное и желтоватое на вид. Молочницы наливали его в вашу трехлитровую банку похожим на высокий стакан старым алюминиевым литровым ковшиком на длинной изогнутой ручке. Они доставали молоко прямо из бидонов (круглых высоких канистр) с потертыми и неровными от постоянной перевозки боками, тоже сделанных из алюминия. Молоко часто было еще теплое, и бидоны отпотевали чистыми капельками воды сверху донизу… Был там удивительно вкусный сладковатый, чуть розовый творог из томленого в русской печи молока. В густой без примесей сметане ложка стояла, и этим определялось ее качество».