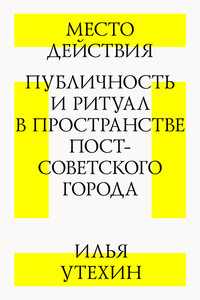Задача России | страница 65
О той России, что открылась ему в наибольшей глубине его духовного опыта, он сказал всего меньше, потому что о самом сокровенном вообще говорить не любил. Передают, что он каждый раз болезненно сжимался, когда речь заходила о его стихах, так что под конец с ним вообще никто не решался говорить на эту тему. Однажды (по Аксакову) «в осенний дождливый вечер, возвратись домой на извозчичьих дрожках, весь промокший, он сказал встретившей его дочери: "j'ai fait quelques rimes"»; то были «Слезы людские, о слезы людские»… И подобно тому как с той же крайней скромностью и почти извинением говорил он всегда о своих стихах, так и Россию предпочитал публично превозносить и частным образом поругивать, а самое тайное, что о ней знал, во всей полноте только раз и как-то само собой у него сказалось — больше он к этому не возвращался, даже и в стихах продолжал молчать. Впрочем, говорить, рассказывать, расписывать было и не нужно: достаточно было оставаться тем поэтом, каким он всегда был. Стихи и тайное ведение России несказанным образом были в нем одно. И в сущности все, что он думал о ней, вся гордость, и тревога, и печаль, — все это было ничто рядом с тем, как она дышала в дыхании его стиха, как жила и живет до сих пор в жизни его слога.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА
«Зияли триумфальные арки, как мосты, разоренные слишком тяжкой проездною пошлиной. Бездомные псы поднимали ногу на коринфские колонны. Пулеметы изрезали аканфы белыми звездами. Посиневшие от холода прохожие — молчаливые призраки, обутые в галоши, – казались под щиплющим снегом такими же оштукатуренными, как стены мокрых домов, с которых в вышине человеческого роста облезла краска. Из труб вместо дыма поднималась одна лишь черная бумага сожженных писем; заделанные ржавым железом двери отворялись неохотно, а по вечерам не отворялись совсем; разговоры можно было вести только за семью замками у себя дома или в тюремной камере. Под низким небом конные статуи, позеленевшие, как стильтонский сыр, скакали по линии горизонта и не могли ее перескочить».
Таким увидел Петербург французский писатель, проездом заглянувший туда лет через пять после «Октября». Он говорит о невымытых стеклах «окна в Европу», о прекраснейшем, быть может, из европейских городов, уподобляемом ныне Венеции, Равенне или Пэстуму, с который сравнил его Уэллс. Впечатление обветшалого величия, которое вынес Поль Моран из разоренной и заброшенной столицы, возникало в те годы у всех посетителей ее; о них же, хоть и не столь цветистым языком, повествует немец Блумберг, посетивший ее немного позже. «Северная Пальмира» показалась ему стареющей прелестницей, облеченной в неопрятное «неглиже». Даже на Невском заметил он немало домов с окнами без стекол, сквозь которые виднелись полусорванные обои и зияющие отверстия дверей. Снятые с петель двери пошли на топливо. Многие крыши провалились. Одни дома сохранили только фасад, скрывавший уже давние развалины; другие стали необитаемы вследствие порчи печей и водопровода; третьи с трудом удалось привести в жилой, но неприглядный вид. Зимний дворец, облезлый и дряхлый, увидел он похожим на пришедший в упадок усадебный дом какого-нибудь разорившегося помещика. И только Исаакиевский собор показался ему непоколебимым, не боящимся невзгод в гранитной своей одежде, с высоким порталом, где еще сияли золотые буквы: «Господи, волею Твоею да возвеличится царь».