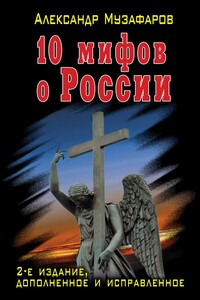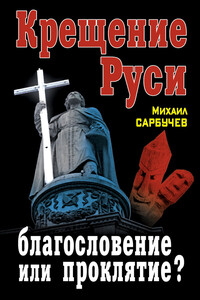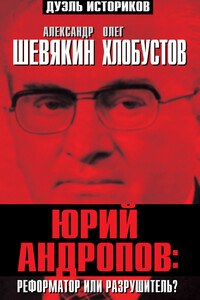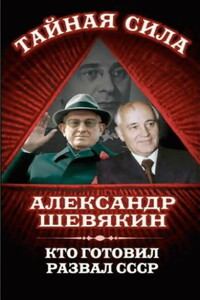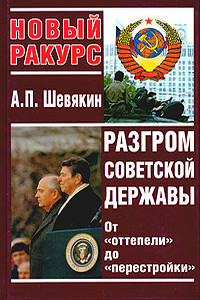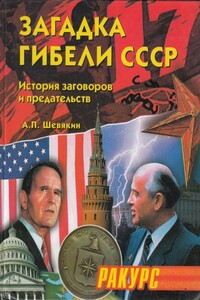Как убили СССР. «Величайшая геополитическая катастрофа» | страница 74
Дольше всего поток сохранялся в строительстве: именно поэтому удалось столь стремительно отстроить разрушенное за годы войны. Потом и здесь он иссяк.
Партруководство об этих вещах не знало — оно тоже предпочитало учиться марксизму по учебникам, но никак не деловитости и часто само себе задавало вопросы: почему это в годы войны справились со всеми задачами, а теперь не в состоянии решить ни одной? Рассказывают, что сразу же после XXVII съезда штаб-квартиру советской разведки в Ясенево посетил первый секретарь Свердловского обкома партии. «Петров очень просто и умно рассказал о съезде, о своей области, третьей, подчеркнул он, в стране по производству промышленной продукции, о своих товарищах по работе. Потом стал говорить о планах на 1986–1990 годы, раскладывать задания по годам и сказал буквально следующее: «Нам здесь все ясно, но вот как добиться выполнения этих цифр, мы не знаем». (…) У меня почти перехватило дыхание… Если не знает он, первый секретарь крупнейшей партийной организации, то что же знает многоликий безответственный съезд, поставивший нереальные задачи?
Петров как будто понял по прошедшей волне в зале, что он сильно смутил слушателей таким признанием. Он стал вспоминать годы войны, когда производительность возросла в 7 раз за три года, когда родилось «советское чудо из чудес», но этим самым как бы подчеркнул беспомощность сравнения» [18. С. 382–383].
Политология
Очевидцы рассказывали, что М. А. Суслов в своем выступлении на XIX съезде ВКП(б) — КПСС сказал, что у нас есть недостатки в политическом просвещении. Сталин его перебил: «Товарищ Суслов, не недостатки, а очень плохо, очень плохо!» Суслов обернулся и говорит в президиум: «Товарищ Сталин, правильно: очень плохо, очень плохо!» (В стенограмму этот момент не попал.) Так оно и оказалось…
Только со стороны было заметно, что в СССР «политология как наука не признавалась» [2.69. С. 15]. О том, как это происходило, теперь вспоминают неоднократно. Доктор политических наук из Института США и Канады начинает свою статью о мытарствах этой науки с того, как он принес одному редактору в солидный московский журнал материал. Тот ему говорит: «Вы пишете «политология». Эта штука не пройдет. Надо или добавить «буржуазная», или вообще выбросьте это слово» [2.70. С. 34].
Другая подобная ситуация: «Помню заседание Института мировой экономики и международных отношений, когда Евгений Максимович был уже его директором. Речь шла о политологии — науке, тогда наряду с кибернетикой и генетикой находившейся в ряду «буржуазных лженаук».