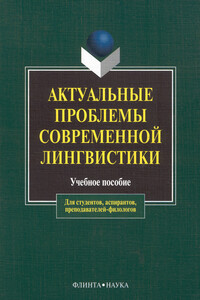Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов) | страница 34
В порождаемой этим смехом художественной реальности социальный и сакральный аспекты смысла неразделимо и взаимопроникающе слиты. Это не дает сатире обособиться в прямолинейно обличительные фрагменты текста и одновременно наделяет дурашливость карнавального комизма весомостью устранения от причастности к недолжному бытию.
Еще один смеховой аспект «Москвы–Петушков» можно назвать экзистенциально-пародийным, поскольку здесь объектом амбивалентной комической профанации оказывается индивидуально-личностное самоопределение, романтическая исключительность внеролевого (экзистенциального) «я». Например: «А у Вас — все не так, как у людей, все, как у Гете!..» «Целомудренность» (внекарнавальность) отношения Венички к отправлениям телесного низа неприемлема для окружающих: «Брось считать, что ты выше других… что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред <…> Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами…». В связи с этим карикатурным конфликтом личности и агрессивной толпы (из четырех безымянных и безличных собутыльников) пародийно используется кантовско-романтическая терминология.
Веничке не удается защитить себя от обвинений в романтической обособленности, поскольку он действительно самоопределяется в качестве одинокого романтического субъекта, который «безгранично расширил сферу интимного» и тем самым субъективно присвоил себе внешний мир («все вы, рассеянные по моей земле»). Но такой модус самоидентификации неоднократно пародийно снижается («по вечерам — какие во мне бездны! — если, конечно, хорошо набраться за день»). После пошло романтической и не вполне искренней (умалчивающей о царице-дьяволице), но вполне эгоцентричной фразы: «Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок», — герой сравнивает себя с вечнозеленой сосной (гейневско-лермонтовская аллюзия), которая «смотрит только в небо, а что у нее под ногами — не видит и видеть не хочет», и тут же — с подножным облетающим одуванчиком. Позднее «сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок» (внутренне отвергаемая карнавальная ситуация) герой, не замечая романтической трафаретности образа, призывает себя быть как пальма: «Не понимаю, причем тут пальма, ну да ладно, все равно будь, как пальма».
Эстетический фундамент деромантизации («отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты») личностного «я» составляет, несомненно, все та же карнавальность, утверждающая роевое единство общенародного тела (все были, «как будто тот пианист, который <…> уже все выпил») и не предполагающая индивидуального «я» в качестве конструктивного момента картины мира. Духовное усилие индивидуальной самоидентификации здесь пародийно осмеяно репликой «глухонемой бабушки»: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего „я“!» Эта реплика была адресована женщине «в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками», совершенно неотличимой от мужчины того же облика (инверсивная игра с мужским и женским началами — один из традиционных карнавальных мотивов). Индивидуальность в этом строе жизни выглядит всего лишь физической неполноценностью («Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно: избоченясь, на левое ребро» и т. п.) или пьяным «одурением» («какие во мне бездны! — если, конечно, хорошо набраться за день»).