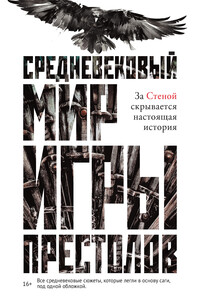Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов) | страница 20
Таким образом, цитируя конструкцию «рама — мотив спасения», Ерофеев продолжает пушкинско-романтическую традицию поиска смысла жизни, но значительно обостряет и драматизирует ситуацию невозможности обретения идеала и спасения.
Е. А. Егоров. Развитие гоголевской поэтики в поэме Вен. Ерофеева
Самара
Слово «поэма» применительно к прозаическому тексту неизбежно отсылает к «Мертвым душам» Гоголя. И мимо этого, разумеется, не могли пройти исследователи «Москвы–Петушков»: «Формообразующая роль выпивки заключается у Ерофеева в том, что процесс опьянения героя идет у него рука об руку с расширением того художественного пространства, в котором герой существует и действует, выходом его из узких пределов быта в беспредельный план бытия. Происходит „взрыв“ в мире детерминированной реальности и переход всех его компонентов в некое иное измерение <…> И в этом новом измерении поездка Венички в Петушки оказывается только поводом к безгранично широкой постановке вопроса о смысле и сущности человеческой жизни в объеме всей известной нам истории. Здесь и лежит разгадка так смущающего всех слова „поэма“. Прибавлю, что совершенно аналогично обстоит дело и с „Мертвыми душами“».[32]
Все процитированное, на наш взгляд, абсолютно справедливо, за исключением последней фразы. Проблема в том и заключается, что с «Мертвыми душами» дело обстоит не совершенно аналогично, начиная с того, что в слове «поэма» у Ерофеева есть интертекстуальная отсылка, а у Гоголя — нет, и кончая принципиально иным способом организации лирического начала. Об этом поподробнее.
Действительно, так же, как и у Гоголя, у Ерофеева все описываемые события (причем события подчеркнуто низменного порядка) оказываются в конечном счете поводом к созданию образа переживания, превращая эпическое произведение в лирическое. Но у двух сравниваемых авторов указанная тенденция имеет разную степень выраженности. У Гоголя поглощение эпики лирикой происходит скачкообразно, когда большие отрывки откровенно эпического характера чередуются с так называемыми «лирическими отступлениями».
Здесь нелишне вспомнить концепцию Ю. М. Лотмана, согласно которой проза выступает как «минус-поэзия». «Художественная проза, — пишет Лотман, — возникла на фоне определенной поэтической системы как ее отрицание».[33] Несмотря на то, что Лотман употребляет термины «проза» и «поэзия», речь он ведет фактически о способах художественной организации в эпическом и лирическом родах. В соответствии с логикой этой концепции, «Мертвые души», очевидно, представляют собой уже следующий этап, своего рода «минус-прозу». Различия Гоголя и Ерофеева, если так можно выразиться, в длине этого минуса. У Ерофеева уже чрезвычайно сложно вычленить эпическое повествование и лирические отступления. У Гоголя, несмотря на силу лирического обобщения, еще очень сильны и, безусловно, самоценны, скажем так, «рудименты» эпического стиля, когда происходит «преодоление осколочности современной жизни в некоей истории — фабуле, связанной со схемами коллективного сознания»,