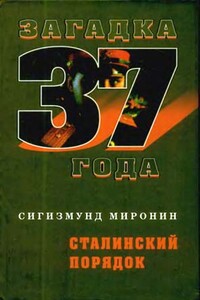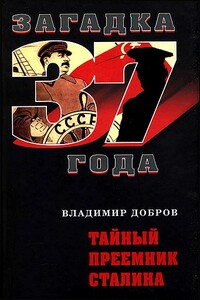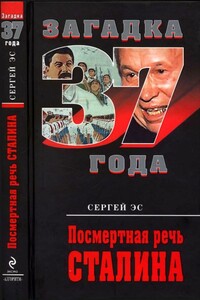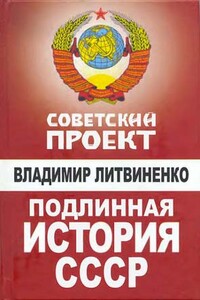Правда сталинской эпохи | страница 87
Во-вторых, и это главное, «подтверждающие данные» на самом деле расчеты не подтверждают. Дело в том, что по своей методике Б. Соколов рассчитал число погибших и умерших воинов Красной Армии. Следовательно, при подсчете общего числа погибших по уровню офицерских потерь нужно учитывать не общие безвозвратные потери (как это сделал Б. Соколов), а только погибших офицеров и красноармейцев, т. е. подтверждение своих расчетов Б. Соколов получил с помощью подлога — подмены понятия «погибшие и умершие» понятием «безвозвратные потери».
Если же использовать данные из донесения 323-й стрелковой дивизии для подсчета погибших воинов Красной Армии, то результат будет совсем не тот, что у Б. Соколова. В упомянутом донесении погибших офицеров и красноармейцев было соответственно 38 и 458 чел. Это значит, что погибших в боях офицеров 323-й стрелковой дивизии было 7,7 %. Поскольку общее число погибших в войне офицеров равно 631 тыс. чел., то, разделив эту цифру на 7,7 %, получим, что общие потери Красной Армии погибшими и умершими составляют 8,2 млн. чел. Это сопоставимо не с цифрами Б. Соколова, а с цифрами Г. Ф. Кривошеева. Результат, конечно, случайный, но весьма симптоматичный.
Еще хуже обстоит дело у Соколова с обоснованием своих цифр по балансу использования людских ресурсов в Вооруженных Силах СССР в период войны. Выясняется, что он не только не знает азов математической статистики, но и с арифметикой у него плоховато. Для подтверждения цифры погибших советских воинов в 26,4 млн. чел. ему пришлось увеличить официальную цифру призыва (34,6 млн. чел.) на 12 млн. чел.: в результате общий призыв, по Соколову, составил 46,5 млн. чел. В это число вошли убитые и умершие от ран, болезней, несчастных случаев (26,4 млн. чел), пленные (2,3 млн. чел.), инвалиды (2,6 млн. чел.), переданные для работы в народное хозяйство (3,6 млн. чел.), оставшиеся в Вооруженных силах и лечившиеся в госпиталях (примерно 11,8 млн. чел.).
Но почему-то Б. Соколов «забыл», что среди призванных в Красную Армию еще были направленные на укомплектование войск и органов НКВД (более 1,1 млн. чел.), переданные в польские, чехословацкие и румынские соединения и части, воевавшие на стороне СССР (0,25 млн. чел.), уволенные по ранению и болезни, но не ставшие инвалидами (1,2 млн. чел.), осужденные (около 0,45 млн. чел.), дезертиры (0,2 млн. чел.) и 0,5 млн. чел. призванных, но не зачисленных в войска. Если все эти группы призывников добавить к вычисленной Соколовым цифре, то общий призыв «по Соколову» окажется больше 50 млн. чел. Но по демографическим расчетам на начало 1941 года в СССР лиц мужского пола от 14 до 50 лет (т. е. тех, кто мог бы в течение войны быть призванными в армию) было чуть более 52 млн. чел. Из этого контингента примерно 3–4 млн. чел. не подлежали призыву (по инвалидности, болезням и др. причинам). Кроме того, существенная часть мужчин призывного возраста должна быть занята в народном хозяйстве. Вряд ли в нашем народном хозяйстве было меньше мужчин призывного возраста, чем в Германии, а там, как утверждает Мюллер-Гиллебранд, использовалось более 4 млн. мужчин призывного возраста, да еще более 5,5 млн. иностранных рабочих и военнопленных. Вероятно, и в народном хозяйстве СССР было занято не менее 6–7 млн. молодых мужчин дополнительно к тем 3,6 млн., что были переданы в народное хозяйство после призыва в армию. Нужно учесть еще, что в возрастной группе 40–49 лет примерно 3 млн. чел. составляли мужчины, которым во время войны было более 50 лет, но призваны в армию были только около 0,5 млн. чел. Нетрудно подсчитать, что реально страна могла выделить для войны максимум 35–37 млн. чел., но никак не 46,5 млн. чел.