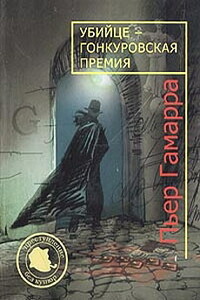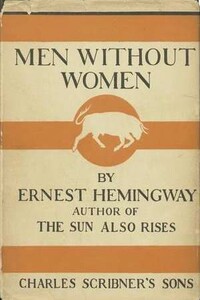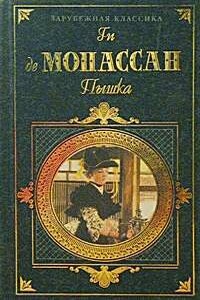Пиренейская рапсодия | страница 47
Мы шагаем. Город исчез позади, вой ветра затихает. Вот и дорога на Кампас. Терпеливый дождик усыпляет гору. За спиной я слышу легкое дыхание Хуаны, Хуаниты. За ней идут трое мужчин.
Я велел им следовать за мною шаг в шаг. Я знаю все повороты тропинки, знаю, когда нужно замедлить. Я нащупываю плитки сланца и стараюсь не ступать по щебню. Мы движемся почти бесшумно. Пас никто не видел. Никто не знает, что мы идем наверх, к невидимой границе — скалистой стене. Где-то там ест проход, я в этом уверен. Не может быть, чтобы там не было дороги. Я часто заговаривал об этом с Модестом Бестеги, но пи разу он не дал мне четкого ответа.
— Да что вы, Модест, неужели там нельзя пройти?
— Трудно.
— Но ведь испанцы прошли, а с ними были дети и больные.
— Да, знаю.
— Вы же сами об этом рассказывали и сами удивлялись.
— Это так.
— Стало быть, там есть проход!
— Да, наверное, есть.
— Ведь не могли же те бедняги перелететь через скалы, как птицы. И обходного пути там нет.
— Обходным путем они вышли бы в другом месте. Не к моей двери. А я их увидел прямо перед домом.
— Значит, есть дорога.
— Я не могу сказать, пока не пройду по ней. Может быть, это древняя дорога…
— Древняя?
— Какой-нибудь старинный проход, давно забытый: надо его отыскать. Ведь скалы там стоят стеной. Вы его раз пройдете мимо и не заметите бреши.
Я остановился и вслушиваюсь в шум горы. Ветер унесся, слышно только, как барабанит ливень и крупные капли скатываются, скользя с листа на лист, и шлепаются о землю. Скоро с первым проблеском солнца проснутся птицы. Уже тут и там звенят их голоса. Я различаю трели и робкий осторожный щебет дрозда, малиновки, синицы. На туманном горизонте же вырисовываются черные ожерелья елей.
Голос Пабло Рамиреса продолжает свой рассказ:
— После того как разорвалась там бомба, лейтенант Клаустро и пулеметчик уже не шевелились. Для них война кончилась. А меня охватило неудержимое бешенство, я сам не понимал, что со мной творится. Это была ярость, почти безумие. Я кажется, готов был шагать под огнем, драться против чего и кого угодно за погибших товарищей, за Клаустро, которого я очень любил. Помню, я подумал, что смерть и впереди и сзади. Между тем товарищи видели, как я шел, и стреляли по балкону, прикрывая меня. И вот я вхожу в этот дом. Вижу побеленные известью стены и висящие вкось картины. Беспорядок и кровь. На комоде с выдвинутыми ящиками — пехотная каска. Перед окнами полыхают матрацы, сквозь дым различаю три тела, лежащие одно на другом… Тошнота подступает к горлу, и в тот же миг мне чудится, будто один из трупов шевельнулся. Граната разорвалась передо мной. Я очнулся в госпитале и услышал, как кто-то рассказывает о гранате. Меня мучила жажда, и я тотчас представил себе спелый гранат, его красные зерна и даже почувствовал их вкус. Я поднес руку к лицу и нащупал бинты. Я был во мраке. Глаза мои остались в Теруэле. Все лицо у меня было заштопано. Хирурги резали меня несколько раз, все пытались спасти мои глаза… Вам здесь и не понять, сколько бед принесла нам эта война. За первые двадцать месяцев от бомбежки погибло больше двадцати тысяч детей. Двадцать тысяч только убитых, а сколько раненых! Пятнадцать тысяч раненых детей. У кого нет руки или ноги, у кого глаза или обоих глаз, у кого пальцев… Я уж не говорю о взрослых. Позднее уже нельзя было подсчитать. Моя семья погибла в Валенсии во время налета. Когда я вышел из госпиталя, я решил вернуться в свою деревню. Только представь себе, Модесто, слепой бродит среди развалин. Протягиваешь руку, чтобы нащупать знакомую стену, и не встречаешь ничего. Ничего — nada Как будто и пальцы у тебя ослепли!