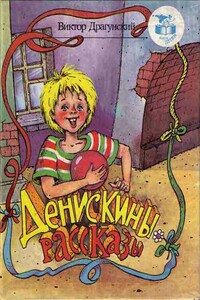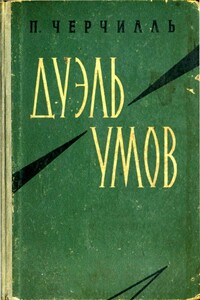Он упал на траву… | страница 60
— Этот полегше будет, — сказали девушки про меня, и, когда втащили, одна шлепнула меня пониже спины, — давай, хромай веселее!
Я вошел в вагон. Он был набит до отказа. На чистых сверкающих скамейках и на чистом сверкающем полу, под чистыми сверкающими занавесками сидел измазанный наш, усталый, измученный и голодный народ. Странно было знать, что это те же самые люди, которые так недавно ехали сюда такие чистые, сытые и здоровые. Но это были они, те же самые, и вид у них был отработанный, они смахивали на отходы, на второй сорт, потому что горе и обида иссушили их за одни сутки. Но я-то хорошо знал, что этот народ не сдался, нет, не сдался! Просто мы все ехали перезаряжаться.
Байсеитов нашел мне место в дальнем углу вагона, рядом с собой, и я опустился на пол. Было тепло и, несмотря на большое количество людей, очень тихо. Народу все прибывало. Потом больше уже никто не входил: видно, грудастые проводницы никого не пускали, люди шли вперед, к голове состава, я слышал голоса за окнами. Вдруг дверь открылась, и к нам в вагон вошел слепой старик. Лысая его голова была обнажена, водянистые серые глаза смотрели строго. Старик все время что-то неслышно шептал, губы его непрерывно шевелились. Впереди него пробиралась крохотная девочка-поводырь. Она была в ладненьком, перевязанном веревочкой зипунчике, головка повязана платочком. В больших, наморщенных, синеватых своих руках старик держал каравай хлеба. Он прижимал его к груди. Войдя в вагон, старик остановился и строго сказал что-то шедшей за ним проводнице. Она скрылась и быстро вернулась, протянув старику длинный и острый нож. Тонким и осторожным движением старик отрезал от буханки небольшую горбушечку. Он отдал ее девочке, и та подошла к первому из нас и протянула ему хлеб. Человек взял, а девочка тотчас вернулась к старику. Он уже ждал ее с новым небольшим ломотком черного хлеба. Девочка взяла ломоток и отдала следующему. Так шли они по вагону, старик и девочка, и оделяли голодных людей, и мы принимали этот хлеб с благодарностью, и грудастые проводницы стояли и плакали.
22
Совершенно не помню, сколько я спал и сколько мы ехали, какие места проезжали, ничего не помню. Вскочил я, когда поезд стоял у перрона Киевского вокзала и половина наших людей уже покинула вагон. Надо мной стоял Байсеитов, он трогал сапогом мои ноги.
— Вставай, — говорил Байсеитов, — вставай же. Москва!
Не передать того, что я почувствовал, когда услышал это слово. Не стоит об этом. Я жадно, до исступления жадно вбирал глазами Киевский вокзал, его грязный, немытый стеклянный купол, нехитрые киоски вокруг и большой разлет площади. Мы стояли на ступеньках вокзального здания, на площади было пустынно, знакомые с детства камни лежали передо мной. Да, это была Москва, в этом было все дело, и сердце билось тяжело и сильно, как язык многопудового колокола.