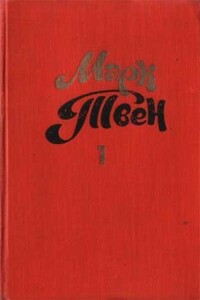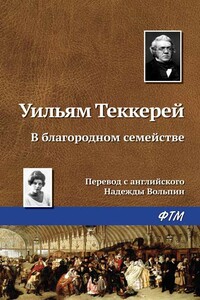Четыре Георга | страница 24
Я читал, что леди Ярмут (фаворитка сего религиознейшего и милостивейшего монарха) продала одному священнослужителю епископскую епархию за пять тысяч фунтов. (Он заключил с ней пари на пять тысяч, что не станет епископом, проиграл и заплатил.) Один ли он из прелатов своего времени возведен в сан подобным образом? Заглядывая в Сент-Джеймский дворец при Георге II, я вижу, как духовные пастыри, шелестя рясами, подымаются по черной лестнице к фрейлинам двора; осторожные священники украдкой роняют кошельки в подолы придворных дам; а сам старый безбожник-король зевает на тронном месте в дворцовой часовне под разглагольствования своего капеллана. О чем же тот разглагольствует? О добродетели и праведном суде? А пока он проповедует, король, не понижая голоса, разговаривает по-немецки, разговаривает во всеуслышание, так, что несчастный клирик (это мог быть, например, некий доктор Янг, автор трактата «Ночные размышления», в коем он рассуждает о великолепии звезд и блеске небес, а также о суетности мира), бедняга просто расплакался настоящими слезами у себя на кафедре, потому что Защитник Веры и даритель епархий его не слушает! Не удивительно, что духовенство было беспринципным и продажным среди всей той продажности и беспринципности. Не удивительно падение нравов и рост неверия под эгидой такого короля. Не удивительно, что выступление Уитфилда было гласом вопиющего в пустыне, а Уэсли покинул оскверненный храм и проповедовал на горе. Почтительно гляжу я на таких людей. Кто достойнее нашего восхищения: честный Джон Уэсли в окружении паствы из рабочих у входа в шахту или же капеллан королевы, бормочущий заутреню в дворцовой прихожей под огромной картиной, на которой изображена Венера, а в открытую дверь виден будуар королевы, и ее величество завершает туалет, сплетничая с лордом Гарвеем или презрительно фыркая на леди Суффолк, стоящую подле нее на коленях с тазом в руках? Мне страшно, говорю я, когда я разглядываю это общество — этого короля, и его придворных, и политиков, и епископов, этот беззастенчивый порок и преступное легкомыслие. Как сыскать при таком дворе честного человека? Человека, чистого душой, которому можно отдать свои симпатии? Самый воздух там пропитан приторными ароматами парфюмерии. При нынешнем нашем дворе есть некоторые глупые обычаи-пережитки и нелепые старые церемонии, над которыми я смеюсь, но как англичанин, сопоставляя настоящее с прошедшим, не могу не признать перемен. Ныне, когда мимо меня проходит хозяйка Сент-Джеймского дворца, я приветствую монархиню мудрую, умеренную, известную своей безупречной жизнью; добрую мать; примерную жену; образованную женщину; просвещенную покровительницу искусств; искреннего друга своего народа, одинаково близко к сердцу принимающего его победы и поражения.